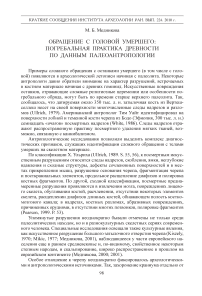Обращение с головой умершего: погребальная практика древности по данным палеоантропологии
Автор: Медникова М.Б.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Антропологические исследования
Статья в выпуске: 224, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328048
IDR: 14328048
Текст статьи Обращение с головой умершего: погребальная практика древности по данным палеоантропологии
ОБРАЩЕНИЕ С ГОЛОВОЙ УМЕРШЕГО: ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДРЕВНОСТИ ПО ДАННЫМ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ
Примеры сложного обращения с останками умершего (в том числе с головой) появляются в археологической летописи начиная с палеолита. Некоторые антропологи давно обратили внимание на характер разрушений, встречаемых в костном материале начиная с древних гоминид. Искусственные повреждения останков, отражающие сложные религиозные церемонии или особенности погребального обряда, могут быть по времени старше верхнего палеолита. Так, сообщалось, что датируемая около 350 тыс. л. н. затылочная кость из Вертеш-селлеш несет на своей поверхности многочисленные следы надрезов и разломов (Ullrich, 1979). Американский антрополог Тим Уайт идентифицировал на поверхности лобной и теменной кости черепа из Бодо (Эфиопия, 300 тыс. л. н.) семнадцать «очагов» посмертных надрезов (White, 1986). Следы надрезов отражают распространенную практику посмертного удаления мягких тканей, возможно, связанную с каннибализмом.
Антропологические исследования позволили выделить комплекс диагностических признаков, служащих идентификации сложного обращения с телами умерших на скелетном материале.
По классификации Х. Ульриха (Ullrich, 1989. S. 55, 56), к посмертным искусственным разрушениям относятся следы надрезов, скобления, ямки, неглубокие вдавления и сходные структуры, дефекты сочленовных поверхностей и в местах прикрепления мышц, разрушение основания черепа, фрагментация черепа и посткраниальных элементов, продольное расщепление диафизов и полировка костных фрагментов. По другой, сходной классификации, посмертные преднамеренные разрушения проявляются в извлечении мозга, повреждениях лицевого скелета, обугливании костей, расчленении, отсутствии некоторых элементов скелета, расщеплении диафизов длинных костей, обнажающем полость костномозгового канала; в надрезах, костных разломах, абразивных повреждениях, причиненных орудиями, в отсутствии многих позвонков, полировке фрагментов (Pearson, 1999. P. 53).
Упомянутые разрушения неоднократно бывали отмечены не только среди палеолитических находок, но и в разнокультурных скелетных сериях современного человека. Специальные исследования освещали такие культурные явления, как искусственное разрушение большого затылочного отверстия черепа (Kiszely, 1970; Mikic, 1977; Медникова, 2001), наблюдавшееся у части европейского населения еще в раннем средневековье и, по-видимому, свойственное некоторым степным народам, и скальпирование, широко распространенное в прошлом на евразийском континенте (Медникова, 2000; 2001).
Особое отношение к черепу неоднократно фиксировалось археологическими и антропологическими источниками. Так, захоронение краниума отдельно от тела – традиция, возникающая на Ближнем Востоке не позднее чем у натуфий-цев (памятники Эрг эль Ахмар, Эйнан, ‘Айн Маллаха). Изолирование черепов было характерно для культурной традиции докерамического неолита Иерихона на стадии А (8500–7500 гг. до н. э., Иерихон, телль Мюрейбит). Стадия культурного развития, соответствующая периоду докерамического неолита Иерихона на стадии В (PPNB – 7600–6000 гг. до н. э.), характеризуется разнообразными проявлениями культа черепа уже на всей левантийской территории. В конце этого периода распространяется такой специфический обряд, как моделирование черепов умерших. Результаты антропологического изучения моделированных черепов из раскопок Иерихона противоречивы. Е. Строухал определил все обследованные им черепа как мужские. Дж. Курт и О. Рорер-Эртль, напротив, идентифицировали большинство обмазанных черепов как женские, и только три – как мужские. По результатам моих наблюдений, моделированный череп, экспонированный в Британском Музее, несомненно принадлежит индивидууму женского пола. Глиняная обмазка полностью покрывала лицевой скелет. В левой височной области локализовано обширное отверстие, не исключено, что искусственного происхождения (Strouhal, 1973; Kurth, Rohrer-Ertl, 1981; Медникова, 2001). Работы антропологов позволяют говорить о том, что обряд моделировки распространялся на различные в гендерном отношении группы населения. Обращает на себя внимание различная семантика частей тела. Тело (посткраниальный скелет) связано с нижним миром; голова (череп) становится элементом архитектуры жилищ и культовых сооружений, принимая на себя позитивную функцию, воплощенную в культе предков.
Хотя, по данным Мишеля Боноговски, обряд моделировки распространялся и на детей, поэтому, по его мнению, этот обычай не был связан с культом предков (цит. по: Медникова, 2004) .
Если рассматривать феномен моделировки черепа в хронологическом порядке, то следующие примеры далеко отстоят по времени и в пространстве от ближневосточной территории. Для финальной фазы существования прибалтийского могильника Звейниеки II характерны погребения с янтарем в глазницах и глиняными масками на лицах (Denisova, 1996). Новые оксфордские датировки помещают подобные захоронения в интервал 3450–3150 гг. до н. э.
При раскопках поселения Ботай (правый берег р. Иман-Бурлук, Кокчетав-ская обл.), датируемого концом IV–III тыс. до н. э., был обнаружен женский череп со следами глиняной маски. По определению Г. В. Рыкушиной, обладательница краниума при жизни была дважды трепанирована в теменной области (Ры-кушина, Зайберт, 1984). Особенности оперативного вмешательства (несквозной характер процедуры и локализация постоперационных дефектов) позволили высказать предположение, что случай из Ботая является одним из древнейших примеров символического трепанирования, осуществленного в ритуальных целях (Медникова, 2001).
В начале II тыс. до н. э. обмазка лицевой части скелета и моделировка, воссоздающая реальный или условный облик покойного, являются характерной особенностью ингульской катакомбной культуры. Культурная традиция охватывала обширную территорию Северного Причерноморья и Приазовья (обзор см.:
Медникова, 2001). Моделировочная масса накладывалась на предварительно очищенный от мягких тканей череп; в обряде часто наблюдались признаки декапитации; на черепах можно встретить специальные отверстия для извлечения мозга. В. В. Отрощенко и С. Ж. Пустовалов (1991) высказали предположение, что обладатели черепов, подвергнутых моделированию, принадлежали к особому слою катакомбного общества – вождям и жрецам, а также членам их семей и родов. Впрочем, они не обнаружили признаков обряда в одном из наиболее значимых захоронений могильника Заможное – у так называемого мужчины-жреца из катакомбы 5/2. Примечательна частая встречаемость одновременно с тщательно моделированными черепами ритуальных амфорок и чаш. Согласно реконструкции украинских исследователей, эти формы посуды делались из кальцита, представлявшего собой смесь истолченных раковин с добавлением древесного угля и песка, замешанную на вязком клейком веществе. В кальцитовом составе выявлено присутствие человеческих, в том числе краниальных, костей, что вновь возвращает нас к теме сложного обращения с останками умерших.
После первых раскопок в Минусинской котловине прочно утвердилось представление о сложном обращении с телами как о необходимом элементе погребального обряда позднетагарского населения. Антропологическое исследование К. Горощенко (1899) выявило присутствие посмертных трепанаций черепа, производившихся с целью извлечения мозга. К. Горощенко отверг другие причины трепанирования, подобные убийству военнопленных, поскольку столкнулся с явлением посмертной моделировки. «Трепанированные черепа служили иногда объектом обряда масок и при этом не чистого обряда, а его вариации, описание которой привело бы нас к тому выводу, что черепа, подвергавшиеся отделке глиняной маской, должны были предварительно потерять от процесса гниения мускулы и другие покровы» (Горощенко, 1899. С. 13).
Археологические исследования ХХ в., многократно увеличив объем исследуемого материала, позволили говорить о разнообразии форм посмертного манипулирования телами в конце раннего железного века Южной Сибири. Некоторыми исследователями была высказана мысль, что обширные дефекты черепа служили для целей последующего бальзамирования и мумификации (см., напр.: Вадецкая, 1986; 1995; 1999). Антропологические работы, способные пролить свет на детали посмертных обрядов, к сожалению, почти отсутствовали. Единственным исключением является публикация И. И. Гохманом (1989) наблюдений о некоторых особенностях посмертного вскрытия черепной коробки. И. И. Гох-ман отметил, что в переходное тагаро-таштыкское время трепанированных черепов немного, и они представляют собой крупные дефекты в самых тонких местах височных костей. У таштыкцев частота встречаемости трепанированных черепов достигает 80–90% в каждом могильнике, а крупные дефекты черепа располагаются в затылочной области.
Форма и локализация трепанационных отверстий были рассмотрены на примере краниологических серий из могильников Тагарский Остров, Самохвал, Кызыл-Куль и Новые Мочаги (Медникова, 1997; 2001; Mednikova, 2000). Было установлено, что все операции производились на свежих черепах остры- ми инструментами с тонким лезвием. Воспалительные реакции или образование костной замыкающей пластинки, сопутствующей заживлению, отмечены не были. Края отверстий заостренные, диаметр внешней компакты шире диаметра внутренней. Структура губчатой ткани не изменена, и симптомов формирования костной мозоли не отмечено. Похоже, что операторы действовали не слишком тщательно и не боялись повредить мозговую оболочку и собственно мозг. Вышеизложенное, а также большие размеры дефектов, свидетельствуют о смертельном характере процедуры, если бы она производилась прижизненно, и подтверждают вынесенное ранее суждение о посмертном характере трепанирования. При осмотре черепов особое внимание уделялось регистрации патологических изменений, маркеров физиологического стресса, и в том числе травм и специфических разрушений (надрезов, насечек и т. п.). Процент прижизненных травм черепа у южносибирского населения достаточно высок. Вместе с тем, последствий посмертного воздействия, связанного, к примеру, с освобождением от мягких тканей при помощи инструментов, мне обнаружить не удалось. К категории преднамеренных посмертных разрушений можно отнести некоторые примеры расширения большого затылочного отверстия и разрушения стенок глазниц (Медникова, 1997; 2001).
Итоги обследования коллекций Минусинского музея им. Мартьянова позволили нам утверждать, что К. Горощенко опубликовал лишь наиболее типичные варианты посмертного вскрытия, тогда как отверстия, встреченные в могильниках Самохвал, Кызыл-Куль и Тагарский Остров, отличаются разнообразием по форме и по способу произведения операции. В конце концов, нами были выделены 5 основных вариантов дефектов (Mednikova, 2000). К первому варианту были отнесены черепа, сохранившие лицевой скелет и основание, часто моделированные в лицевом отделе красной глиной, после того как мягкие ткани были удалены. Дефекты имели обширную двустороннюю локализацию на височных и теменных костях. Вторую группу составили черепа, полностью утратившие лицевой скелет и основание, с несомненными признаками искусственного двустороннего разрушения в височной области. К третьей группе отнесены черепа с обширными односторонними отверстиями в височной области. Четвертая группа – черепа, у которых одновременно с двусторонними разрушениями в височной области встречены небольшие овальные или округлые перфорации в нижней части затылочной кости. Пятая группа – черепа с обширным отверстием в центрально-верхней части затылочной кости и/или с небольшими округлоовальными отверстиями в верхней части теменных костей. Достаточно очевидно, что формально описанные типы 1–4 представляют собой разную степень фрагментации скелетного материала и вариации осуществления единой культурной традиции. Характерно, что все эти черепа относятся к позднетагарскому периоду. Тип 5 отражает иную технику трепанирования и связан с более поздним та-штыкским населением. Совершенно новым явлением, ранее не упоминавшимся антропологами, исследовавшими трепанации в Минусинской котловине, стало обнаружение небольших овальных отверстий в теменных и затылочной костях.
На предмет присутствия трепанаций было также обследовано 20 черепов из могильника Новые Мочаги, т. е. примерно каждый пятый от первоначального числа раскопанных в кургане краниумов (Медникова, 2001). Все они несут следы искусственного нарушения целостности мозговой капсулы. Преимущественное расположение трепанационных отверстий – в височной области слева. Отверстия, как правило, односторонние, в отличие от могильника Кызыл-Куль, но в целом обряд очень похож. Так, почти все черепа из Новых Мочагов сохранили следы глиняной обмазки. Область глазниц, носовые пазухи и ротовая полость заполнены глиной. Глина плотно примыкает к поверхности лицевого скелета. Она была отмечена и под скуловыми дугами (например, женский (?) череп под № 21). Подобное было бы невозможно, если бы лицевой скелет не утратил перед наложением еще мягкой глины кожные покровы и мышечную ткань. Поверх слоя глины накладывались тонкие гипсовые маски. Они были раскрашены, причем, судя по нашим половозрастным определениям, цвет раскраски отличался у женщин и мужчин.
Всегда ли погребальные маски отражали портретные черты усопшего? К сожалению, в распоряжение антропологов не так часто попадают черепа с хорошей сохранностью лицевого скелета, подвергшиеся посмертным моделировкам или прикрытые в момент захоронения «настоящей» маской. Существующие к настоящему моменту реконструкции внешнего облика позволяют думать, что портретное сходство достигалось далеко не всегда (Медникова, Лебединская, 2004).
Итак, антропологическая экспертиза ряда памятников позднетагарской эпохи свидетельствует о моделировании предварительно очищенных от мягких тканей черепов и о том, что очищение производилось не острыми инструментами, а каким-то иным способом. Поэтому возникает вопрос: насколько корректно отражают термины «бальзамирование» и «мумификация», прочно утвердившиеся в археологической литературе применительно к минусинским находкам, сложные процессы обращения с телами тесинских тагарцев? Как правило, бальзамирование подразумевает процесс, нацеленный на консервацию и как можно более долгое сохранение мягких тканей. Манипуляции поздних тагарцев с головами умерших соплеменников приводили к диаметрально противоположным последствиям. При этом, в каких-то вариантах (например, в могильнике Новые Мочаги) посткраниальные отделы сохраняли анатомическое сочленение, т. е. в момент захоронения присутствовали мягкие ткани. Тот факт, что именно голова покойного подвергалась особому обращению, свидетельствует о роли этой части тела в идеологических представлениях древнего населения Южной Сибири. Подобные воззрения имеют глубокие исторические корни. Например, М. А. Дэвлет (1997; 1998), интерпретируя изображения окуневских личин-масок с антенной на голове, видит объяснение в представлениях мистической связи человека с космосом. Говоря о личинах сердцевидной формы с акцентированной областью макушки, она привлекает сакральное понятие «отверстие Брахмы». «Если вы хотите убить меня, то воткните иглу в теменное отверстие Брахмы» (цит. по: Дэвлет, 1997. С. 242).
Моделировка лицевого скелета, наполнение глазниц, ротовой полости могут быть истолкованы не только как обезвреживание умершего (Кызласов, 1960) или метод консервации (Вадецкая, 1999), а как своеобразная инициация, вводя- щая покойного в иной мир. Средством превращения также неслучайно избрана трепанация, процедура, использовавшаяся и для метаморфозы живых, и для окончательного преображения умерших (Медникова, 2001). А. Д. Авдеев (1957) пришел к выводу, что главная функция маски – преобразить сущность человека, создать определенный образ (животного, предка, духа, бога). Привлечение данных этнографии позволяет предположить, что моделировка имеет аналогии в обрядах «занавешивания» лица, распространенного в инициационных и свадебных обрядах, где выполняет функцию обозначения переходного состояния, временной смерти. Манипуляции в области глазниц также имеют логическое объяснение, будучи рассмотрены в контексте культурной антропологии. Так, В. Я. Пропп (2000) выделял категорию фольклорных персонажей, хранителей царства мертвых. Это баба-яга русских сказок, красноглазая ведьма – немецких, циклоп Полифем – в греческой мифологии. Общая особенность героев – они слепы или ослепляемы по ходу действия. «Когда она [яга] уснула, девка залила ей глаза смолой, заткнула хлопком...» (Пропп, 2000. С. 54). Яга из царства мертвых не видит представителя царства живых, и наоборот, культурный герой, попадая живым в царство мертвых, должен временно ослепнуть.
Технико-технологическое исследование образцов глиняных обмазок может способствовать выяснению связей и преемственности культурных и религиозных традиций у представителей древних сообществ. Пока имеющиеся в нашем распоряжении сведения о составе моделировочных масс мозаичны. Ю. Б. Цет-лин (Институт археологии РАН) по моей просьбе произвел анализ образцов обмазок из двух погребений ингульской катакомбной культуры с Украины 1 и из кургана 8 могильника Кызыл-Куль в Минусинской котловине (поздний тагар). Эти данные были сопоставлены с результатами производившегося им ранее анализа образца из ямного могильника Кармен-Толга (к. 43, п. 3) и образца из Чограйского могильника в Калмыкии (к. 11, п. 4–7) (раскопки Н. И. Шишлиной в 1986 г.).
В Кармен-Толге для изготовления обмазки применялась формовочная масса, изготовленная из трех глин: первичного каолина, ожелезненной глины с очень мелкими включениями бурого железняка, слабоожелезненной тугоплавкой глины светло-серого цвета в естественном состоянии. Масса отличалась высокой пластичностью. Внешняя поверхность маски окрашена сплошным слоем охры, на внутренней поверхности слой охры сохранился на отдельных участках. Маска не подвергалась воздействию огня, имеет следы обызвесткованности.
В Чограйском могильнике была использована ожелезненная, сильно запе-соченная глина с искусственной примесью золы. На внутренней поверхности маски сохранились следы костного материала. Внешняя поверхность была окрашена охрой, на внутренней признаков окрашивания в явной форме не обнаружено.
Обмазки в погребениях ингульской катакомбной культуры на Украине изготавливались из трех последовательно нанесенных слоев глинистой массы. Пер- вый слой, прилегавший к костной поверхности, толщиной 8–12 мм, состоял из высокоожелезненной глины средней пластичности, в большом количестве содержавшей естественный оолитовый охристый бурый железняк (1 часть железняка на 4–5 частей глины). Влажная глина была смешана с дресвой, представленной какой-то каменистой породой конгломератного состава и подвергшейся предварительному измельчению. Максимальный размер зерен дресвы составляет 1,5–2 мм. Концентрация дресвы в формовочной массе составляет примерно 1 часть на 3–4 части глины. На поверхности этого слоя, прилегавшего к лицевому скелету, обнаружены несколько отпечатков волоса восьмеркообразной формы. Второй слой, толщиной 4–7 мм, состоял из слабоожелезненной глины высокой пластичности. Эта глина, будучи в сухом дробленом состоянии, была смешана с той же самой дресвой и в той же пропорции. Поскольку глина находилась в сухом состоянии, конечная концентрация дресвы составила 1 часть на 2–3 части глины. В составе формовочной массы также обнаружены редкие отпечатки микроскопических водорослей, скорее всего попавших сюда с водой при замачивании глины. Третий слой, толщиной 0,2–0,5 мм, по составу аналогичный первому слою, представлял собой тонкую обмазку красного цвета.
Образец из могильника Кызыл-Куль был получен нами из обмазки черепа № 6667/164. Погребальная маска была выполнена из гипса, смешанного с дресвой, представленной пылевидной каменной крошкой, размер зерен которой составляет от 0,5 до 1 мм. Концентрация дресвы составляет примерно одну часть на 3–4 части гипса. Одна поверхность маски сколота, а другая покрыта слоем обмазки толщиной до 0,5 мм, состоящей из чистого гипса без добавлений.
Микроскопический анализ образца, взятого от кызыл-кульского черепа № 6667/163, показал, что обмазка была изготовлена из чистой высокоожелез-ненной природной глины средней пластичности, использованной, вероятно, во влажном состоянии. Следов дополнительной обработки или искусственных добавок не отмечено.
Таким образом, характерной особенностью обряда моделирования в эпоху бронзы можно считать наличие специальных добавок в глиняную формовочную массу и сочетание нескольких разновидностей глин. Рассмотренный образец конца раннего железного века, в котором отсутствуют дополнения, свидетельствует о необходимости технологического изучения моделированных поздне-тагарских черепов из других могильников Минусинской котловины для вынесения окончательного заключения. Представляется необходимым включить в рассмотрение энеолитические находки обмазанных черепов из Прибалтики (Звейниеки II) и Урало-Иртышского междуречья (Ботай).
Систематизация информации о распространении трепанаций также помогает решать вопросы преемственности или взаимодействия синхронных культур, часто отражая миграцию древнего населения. Включение в научный оборот все новых материалов с территории северо-западной Монголии, Тувы, Алтая (в том числе казахстанской его части), из Западной Сибири позволяет говорить об устойчивом феномене трепанирования черепов, характерном для огромного пласта кочевых скотоводческих культур середины и конца раннего железного века. При этом спорадические находки на территории Центральной Азии и Восточного Туркестана удревняют практику трепанирования местным населением до эпох энеолита и бронзы (посмертные манипуляции у окуневцев – могильник Разлив Х; прижизненные у карасукцев – Хара-Хая, и, возможно, у населения Синьцзяня – Чаухугоу 4) (Медникова, 2001).
Итак, специфическое обращение с головой умершего является характерной особенностью погребальных традиций многих народов древности. Почему объектом для посмертных манипуляций так часто становится именно голова покойного? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить, что для представителей традиционных культур, к которым, без сомнения, можно отнести и народы давно ушедшей древности, человеческое тело являло собой основу мироздания, ту матрицу, которая порождала организацию мирового порядка. В соответствии с глубоко укорененными архетипическими представлениями, тело представляло собой текст, в том числе сакральный (Медникова, 2007).
На определенном этапе общественного развития универсальным стало представление об антропоморфном строении вселенной. Весь мир представал как огромное человеческое тело. Мы видим, как очень разные культуры, не все из которых связаны общностью происхождения (примеры видны не только в индийской или скандинавской, но и в китайской мифологии), используют один образный язык. В этом универсальном для всего человечества тексте все, что относится к верхней части тела и к голове, связано с небом, солнцем, луной, звездами. «Свод черепа» (вполне анатомическое понятие) ассоциируется с небесным сводом. В этом культурологическом контексте археологические примеры сложного обращения с головой покойного могут быть интерпретированы как воссоздание древнейшего космогонического мифа.
Список литературы Обращение с головой умершего: погребальная практика древности по данным палеоантропологии
- Авдеев А. Д., 1957. Маска//Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XVII. М.; Л.
- Вадецкая Э. Б., 1999. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.
- Горощенко К., 1899. Гипсовые курганные маски и особый вид трепанации в курганах Минусинского округа. М.
- Гохман И. И., 1989. Палеоантропология и доисторическая медицина//Антропология -медицине. М.
- Дэвлет М. А., 1997. Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной Азии//Окуневский сборник/Под ред. Д. Г. Савинова, М. Л. Подольского. СПб.
- Дэвлет М. А., 1998. Петроглифы на дне Саянского моря. М.
- Кызласов Л. Р., 1960. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.
- Медникова М. Б., 1997. К вопросу о распространении посмертной трепанации черепов в Центральной Азии//РА. № 4.
- Медникова М. Б., 2000а. Скальпирование на евразийском континенте//РА. № 3.
- Медникова М. Б., 2000б. Обращение с останками умерших в верхнем палеолите//Homo sungiren-sis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования/Отв. ред. Т. И. Алексеева, Н. О. Бадер. М.
- Медникова М. Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.
- Медникова М. Б., 2004. Трепанации в древнем мире и культ головы. М.
- Медникова М. Б., Лебединская Г. В., 2004. К вопросу об антропологическом изучении посмертных масок//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии/Ред. М. Б. Медникова. Вып. 3. М.
- Медникова М. Б., 2007. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник.
- Отрощенко В. В., Пустовалов С. Ж., 1991. Обряд моделировки лица по черепу у племен катакомбной общности//Духовная культура древних обществ на территории Украины/Под ред. В. Ф. Генинга. Киев.
- Пропп В. Я., 2000. Исторические корни волшебной сказки. М.
- Рыкушина Г. В., Зайберт В. Ф., 1984. Предварительное сообщение о скелетных остатках людей с энеолитического поселения Ботай//Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья/Отв. ред. С. Я. Зданович. Изд. Башкирского ун-та.
- Denisova R., 1996. Zvejnieku akmens laikmeta kapukauks. Iekseja struktura un hronologija//Latvijas Vestures Instituta Zurnals. 4 (21).
- Kiszely I., 1970. On the peculiar custom of the artificial mutilation of the foramen occipitale magnum//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. XXII, 22.
- Kurth G., Rohrer-Ertl O., 1981. On the Anthropology of the Mesolithic to Chalcolithic Human Remains from the Tell es-Sultan in Jericho, Jordan//Excavations at Jericho/K. M. Kenyon, T. A. Holland (eds.). Vol. 3.
- Mednikova M., 2000. Post-Mortem trepanations in Central Asia: types and trends//Kurgan, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age/J. Davis-Kimball, E. M. Murphy, L. Koryakova, L. T. Yablonsky (eds.). (BAR Intern. Ser. 890.)
- Mikic Z., 1977. Ein fruhmittelalterischer Schadel aus Bosnien (Jugoslawien) mit kunstlicher Verbreitung des Foramen occipitale magnum//Festschrift 75 Jahre Anthrop. Staatssamml. Munchen.
- Pearson M. P., 1999. The archaeology of death and burial. Sutton Publishing Limited.
- Strouhal E., 1973. Five plastered skulls from the Pre-Pottery Neolithic B Jericho: Anthropological Study//Paleorient. Vol. 1 (2).
- Ullrich H., 1979. Artificielle Veranderungen am Occipitale von Vertesszolos//Antropologai. Kozle-meyek. Vol. 23.
- Ullrich H., 1989. Kannibalismus im Palaolithikum//Religion und Kult. Berlin.
- White T. D., 1986. Cut marks on Bodo cranium: a case of prehistoric defleshing//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 69.