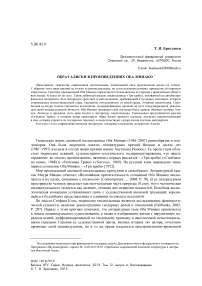Образ Аляски в произведениях Оба Минако
Автор: Бреславец Татьяна Иосифовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Представлено творчество современной писательницы, посвятившей свои произведения жизни на Аляске. С образом этого края связаны не только ее ранние рассказы, но и последующие романы, принесшие ей широкую известность. Тематика произведений Оба Минако определяется столкновением ее героини с враждебным обществом людей, чуждых ей по духу. Таков дебютный рассказ писательницы «Три краба», основанный на автобиографических материалах. В ее литературе предстает судьба женщины, пребывающей в духовных скитаниях, которую сопровождает экзистенциальный страх, ощущение отчужденности от своей среды, отчаяние одиночества. Самобытная культура Аляски становится источником, поддерживающим героиню на пути самоутверждения, реализации своей индивидуальной личности. Оба Минако посвящает себя изучению быта, нравов, обычаев, истории Аляски. Легенды и предания этого края входят в литературу писательницы. Уникальным представляется рассказ «Огненная Трава», в котором автор анализирует образ жизни древнего племени, коллизии взаимоотношений в нем, которые строятся по гендерному признаку и свидетельствуют о разрушении системы матриархата.
Современная японская литература, гендерные отношения, модернизм, аляска
Короткий адрес: https://sciup.org/147218821
IDR: 147218821 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Образ Аляски в произведениях Оба Минако
Творческая жизнь японской писательницы Оба Минако (1946–2007) разнообразна и плодотворна. Она была лауреатом многих литературных премий Японии и десять лет (1987-1997) входила в состав жюри премии имени Акутагава Рюноскэ. Ее проза стала областью творческих исканий, художественно-эстетического экспериментирования, что нашло отражение во многих произведениях, начиная с первых рассказов - «Три краба» («Самбики-но кани», 1968) и «Огненная Трава» («Хигуса», 1969). На русский язык переведено лишь первое сочинение Оба Минако – «Три краба» [1972].
Мир произведений японской писательницы причудлив и своеобразен. Литературный критик Миура Масаси отмечал: «Величайшая притягательность сочинений Оба Минако заключается в их идеях, связанных с космосом» [Contemporary…, 2008. P. 70]. В ее литературном пространстве человек предстает как неотъемлемая часть природы. В силу этого человеческая индивидуальность подается как явление, стоящее вне иерархии ценностей. Подобная аксиологическая концепция устанавливает связь с художественной японской традицией, коренящейся в буддийских представлениях о единении человека и вселенной.
По мысли Стефана Кола, творчество писательницы является исследованием феминистической сущности, включая деконструкцию гендерных ролей и отношений [Fairbanks, 2002. P. 287]. Наряду с этим критики отмечают, что литературная тема Оба Минако проявляется в показе индивидуального существования, а также в изображении жизни с нарушенным порядком вещей, дифференцированной по гендерному признаку и наполненной экзистенциальными страхами. Героиня ее художественной прозы, являясь вторым «я» автора, отчетливо проявляет свой индивидуализм, но в то же время наделяется пространственно-временной исторической конкретностью [Мидзута Мунэко, 2003. С. 310]. Нельзя не отметить, что в современной японской литературе отчетливо прослеживается влияние философии экзистенциализма, которая находит отражение и в творчестве Оба Минако. Очевидно, что ее писательская манера генерирована модернистской литературой ХХ столетия.
Произведения писательницы рисуют столкновение героини с враждебным окружением. О судьбе женщины, обреченной на конфликт с обществом, она говорит в рассказе «Улыбка горной ведьмы» («Ямауба-но бисё», 1976): «Ее временами охватывало чувство крайнего одиночества. Она начинала бояться не только мужа, но и окружающих ее людей, чувствуя себя так, будто ее обступили иностранцы, которые не говорят на ее родном языке» [Оба Минако, 2007. С. 56].
По мысли Мидзута Мунэко, ощущение отчужденного существования, пронизывающее рассказ «Три краба», является чувством отчуждения от «другого», который имеет свое собственное «я» и живет индивидуальной жизнью. Встреча с «другим» или признание существования «другого» явились отправными точками литературы Оба Минако [Мидзута Мунэко, 2003. С. 310]. Более развернуто эта тема представлена в романах «Трава урасима» («Ураси-масо», 1977) и «Путешествие в тумане» («Кири-но таби», 1980). Ее героиня неизменно ощущает себя чужой, отринутой от других людей. В этом отношении Аляска, место действия рассказа «Три краба», как нельзя лучше соответствует раскрытию данной темы, поскольку его героиня заключена в непривычную для нее среду обитания, словно отрезана от внешнего мира. Мысль о возвращении в Японию усиливает в ней чувство отчуждения, поскольку родина становится для нее более чуждой страной, чем чужбина.
Опыт жизни на Аляске в течение одиннадцати лет (1959-1971) оказал сильное воздействие на творчество Оба Минако. В заметках по поводу романа «Бесформенность» («Катати мо наку», 1982) она упоминает о своих «…сомнениях, касающихся логики западного мышления», о своем решительном несогласии с Западом [Contemporary…, 2008. P. 70]. В ее суждениях приоритет западной культуры и ментальности подвергается значительной критике. Через ее писательскую карьеру последовательно проходит изображение магического, а также фольклорного мира, связанного с шаманской культурой Аляски.
О пребывании в этом крае Оба Минако писала в послесловии к сборнику рассказов «Три краба»: «Тогда я ощущала себя заключенным, заточившим себя в узилище. Местом моей ссылки был прекрасный остров в сказочном мире бесчисленных бухт и озер, где я вела праздный образ жизни, размышляя о превратностях человеческой судьбы и не осознавая, закончится ли когда-нибудь срок моего заточения. В те дни у меня было много свободного времени, и в этом сонном течении дней, когда я пробуждалась от дремы, я наблюдала за причудливой игрой морских зверьков у кромки прибоя и за танцами белых лебедей на озере. В лесу, за домом, где я жила, мне часто встречалась олениха с детенышем, а с приходом зимы, когда озеро покрывалось льдом, я прямо от дома спускалась к нему и лихо пересекала его на коньках» [Оба Минако, 2003. С. 292].
Аляска рисуется отдаленной областью с первозданной природой, куда стекаются «скитальцы» с разных концов света – американцы, японцы, русские. Как видно из рассказа «Три краба», круг их общения ограничен, они пребывают в замкнутом мирке иностранцев, поддерживая вынужденное сосуществование. Этот край стал их пристанищем в жизненных скитаниях, и писательница, вслед за своими героями, идет по пути постижения его души, раскрытия его загадочного облика в многообразных картинах природы, в описаниях явлений уникальной культуры, в обрисовке человеческих характеров. Автобиографический мотив литературы Оба Минако, которую можно назвать литературой «скитаний», сообщает ее произведениям неподдельную искренность, доверительную интонацию.
Героиня Оба Минако ощущает себя потерянной на просторах Аляски. Самореализацию героини сдерживает «другой» – тот, кто обладает собственным «я» и становится внешним объектом, с которым невозможно единение. Героиня, исполненная стремлением к самовыражению, а также непреодолимым желанием самоутвердиться, приходит в противоречие с «другим», противостоит ему. В попытках совместного существования разворачивается драма, из которой возникают характеры живых людей, находящихся в противоборстве друг с другом. В результате драматического развития событий с «другим» происходит метаморфоза, и он уже осмысляется не как внешний объект, а присутствует внутри главной героини.
У Оба Минако герои сосуществуют с «внутренними иностранцами» [Мидзута Мунэко, 2003. С. 312‒313].
Это суждение наводит на мысль о том, что каждый персонаж в произведениях Оба Минако внутренне испытывает разъединенность с окружающими, но в то же время ощущает стремление к поискам взаимопонимания. Психологический конфликт личности в разрезе «я и другой» ранее был развернут в романе Абэ Кобо (1924‒1993) «Женщина в песках» («Суна-но онна», 1962), где герой, неожиданно изолированный в искусственной песчаной яме, вынужден осмыслить суть своего существования как необходимость созидания единства с другими, в частности с женщиной. Тема сексуального партнерства, которая в романе «Женщина в песках» подается в форме притчи, анализируется в произведениях Оба Минако в ситуациях повседневного поведения.
Излагая впечатления о загадочной стране, какой перед ней предстала Аляска, писательница отмечает: «Никому из окружающих людей я не говорила о своем литературном творчестве, также не предлагала для обсуждения ничего, касающегося литературы. Я только молча слушала их разговоры. Они говорили на непонятном мне языке, поэтому в лесу, уставившись в глаза встретившегося мне животного, я мысленно изо всех сил пыталась угнаться за логикой неопределенных и непонятных мне умозаключений этих людей. Окруженная чужой речью, я старалась понять собеседника с помощью силы воображения, сейчас, когда я оглядываюсь на те времена, мне кажется, что передать нечто подобное и есть задача литературы» [Оба Минако, 2003. С. 292].
В произведениях Оба Минако отображены судьбы женщин, боровшихся за свое счастье, за утверждение собственной индивидуальности. Широко представленная в мировой литературе эта тема заняла достойное место и в произведениях японских писателей, среди которых следует выделить Арисима Такэо (1878‒1923) с его романом «Женщина» («Ару онна», 1919). Контуры этого произведения различаются в рассказе «Три краба». Концепция «инстинктивной жизни», естественного бытия человека, которой следовал писатель, была им реализована и в повести «Потомок Каина» («Каин-но мацуэй», 1917). С ним непосредственную связь устанавливает рассказ «Огненная Трава», в котором женщина восстает против власти мужчин в общине аборигенов на Аляске.
Дебютный рассказ «Три краба» посвящен исканиям современной молодой женщины в сложном социокультурном контексте. Однако исследование верований, преданий, духовного мира Аляски в нем только намечено. В рассказе «Огненная Трава» Оба Минако поставила целью написать о тлинкитах, индейском народе, населявшем юго-восток Аляски, раскрыть проблемы, характерные для этого края, используя знание его традиций и легенд.
В выборе средств художественного письма писательница руководствовалась требованием ассоциативной образности, и проза стала сродни поэзии. Оба Минако признавалась: «Тогда, в лесу, я внимательно прислушивалась к речам этих людей и воспроизводила их на свой лад, передавая их музыкальное звучание» [Оба Минако, 2003. С. 295]. Вместе с тем она подчеркивала: «В своих произведениях я избегаю сложных, вводящих в заблуждение оборотов речи» [Там же. С. 292]. Язык и стиль ее сочинений характеризуется утонченной выразительностью, скрытой метафоричностью, многозначностью словоупотребления, а художественная структура содержит сложные композиционные решения.
Автором выбрана историческая эпоха, когда малочисленное население Аляски вступило в контакт с современной западной цивилизацией, а его традиционная общественная система, построенная на принципах матриархата, начала разрушаться. Общество подошло к критическому рубежу, и этот момент запечатлен писательницей в судьбах героев рассказа.
Примером разрушительных действий явилось настойчивое стремление женщины по имени Огненная Трава к запретной любви. В рассказе показано сопротивление женщины репрессивному обществу мужчин. Она была дочерью вождя племени Орла и отличалась непокорностью. Когда обнаружилось, что она втайне сделала раба племени своим любовником, раб был забит камнями, а Огненную Траву изгнали на болота, пока ее не нашел там Куропатка, вождь племени Ворона, и не сделал второй женой. Однако Огненная Трава отказалась хранить ему верность. Его молодой племянник, Дрозд, должен был стать следующим вождем, и Огненная Трава носила в своем чреве его ребенка, что было попранием племенных законов.
Намереваясь при помощи метафор показать любовные отношения, автор выстраивает сюжетную линию, сдвигая временные границы. В рассказе в качестве одного из выразительных средств используются явления годичного цикла. Так, период наиболее обширного нереста лосося, которому это стоит жизни, переведен из ранней осени в конец лета, когда отцветает цветок под названием «огненная трава». Совмещение этих природных событий становится знаком гибели женщины, полной сил и стремлений. Рассказывая о любви героев, автор описывает северное сияние и переносит его в конец лета, хотя на Аляске оно бывает при переходе от осени к зиме [Эгуса Мицуко, 2001. С. 101-102]. Согласно замыслу писательницы, и увядание цветов «огненной травы», и нерест лосося, и северное сияние происходят одновременно, демонстрируя эмоциональное единство человека и природы.
Важнейшей метафорой произведения стало имя «Огненная Трава». Оно произошло от названия красного цветка иван-чая. Оба Минако разъясняла: «Огненная трава – это цветок, встречающийся наиболее часто на Аляске. В разных районах произрастают различные его виды. Есть среди них довольно высокие, достигающие в высоту двух метров, а есть и низкие растения, стелющиеся по земле. Четыре его неярких алых лепестка очень красивы, они создают соцветия, идущие вдоль стебля, а обилие вокруг этих цветов рождает впечатление пламени. Это растение ранее остальных покрывает пространство гарей после пожаров, часто возникающих здесь в засушливый период» [Эгуса Мицуко, 2012. С. 156-157].
Цветок, произрастающий на пепелищах, символизирует не только жизненную силу женщины, но и ее способность к возрождению и обновлению, к созиданию новой жизни. Оба Минако в художественных целях называет его «огненной травой» хигуса , что является калькой английского слова fireweed , хотя существует японское обозначение цветка – янагиран . Писательница подчеркивает упорство, стойкость женщины, обладающей характером «огненной травы», и противопоставляет ее мужчинам.
Название цветка имеет многогранный скрытый смысл, который проявляется в зависимости от места его употребления в рассказе. С его помощью автор привносит в повествование образ огня, обрисовывая человека и дикую природу. Известно, что в классической японской литературе широко представлен образ огня как метафоры любовных чувств, сжигающих человека. Искусство риторики позволяет писательнице выразить всепоглощающую страсть героини, в которой пылают чувства, как алый цветок.
Огненная трава колышется и в небе, превращаясь в северное сияние. Дрозд, любовник Огненной Травы, глядя на это свечение, восклицает:
«Посмотри на небо. На небе полным-полно огненной травы, и как шумит!
Вокруг сплошь росла огненная трава. В вечерних сумерках она шуршала подобно пламени, облизывающему заросший пологий склон.
Дрозд вбежал следом за Огненной Травой в заросли огненной травы. Огненная Трава подала голос. Ее голос, вдали от селения, звучал прекрасно, рассыпаясь жемчугом, он был наполнен блеском и возбуждал Дрозда обольстительными переливами. Губы она смазала смесью из красного сока земляники и жира дикой козы, и этот красный цвет на ее сияющем лице разжигал его своей засасывающей влажностью. Засияли ослепительно белые, как морские раковины, зубы, Огненная Трава залилась гортанным смехом и раскинула руки. Дрозд крепко обнял Огненную Траву и, кусая, повалил ее в расходящуюся волнами огненную траву. Красное пламя огненной травы качалось над щеками и лбом Огненной Травы, а синева неба отражалась в ее глазах» [Оба Минако, 2003. С. 81-82].
В приведенном отрывке словосочетание «огненная трава» встречается десять раз. Имя женщины и название цветка намеренно использованы так, что их трудно разъединить. Женщина наделяется магической силой, мистическими чарами, неразрывно связанными с природой.
Притягательность женщины сравнивается и с красотой крупной сильной птицы: «В этот момент из зарослей вылетела цапля. Между ее широко распростертыми, светло-серыми крыльями, с примесью белого, сверкали алым пламенем часть мокрой груди и выступающие ноги.
– Красивая… Прямо как женщина… ‒ поддерживая Куропатку, сказал Дрозд, глядя вверх. У Куропатки еще кружилась голова, и когда эта светло-алая мокрая грудь пролетала над ним, он невольно вспомнил Огненную Траву. Он увидел, как вдалеке сверкает болото, и на краю болота лежит белое тело Огненной Травы. Тут Дрозд и сказал: “Красивая… Прямо как жен- щина…”. Вероятно, это было случайным совпадением, но у Куропатки потемнело в глазах. В этот момент он понял, что Дрозд, так же как и он, увидел Огненную Траву в солнечных лучах» [Оба Минако, 2003. С. 108]. Героиня неизменно окружена свечением, блеском и символизирует светлое начало, в то время как ее окружение описано в мрачных тонах.
Страстная сцена между Огненной Травой и Дроздом напоминает эпизод из повести «Потомок Каина», герой которой обладает грубой, неуемной силой дикого зверя. Его неотделимость от природы проявляется во взрывной силе сексуального поведения, которое, по мнению Эгуса Мицуко, автор, скорее, порицает. В рассказе «Огненная Трава», напротив, сексуальность героини оправдана в качестве мистически прекрасного благодаря ассоциативным параллелям между женщиной по имени Огненная Трава и одноименным цветком [Эгуса Мицуко, 2001. С. 104]. Героиня предстает как источник жизненной энергии, раскрывается в своей первозданной сущности, мощной креативности.
Мужчины и женщины племени существуют, слившись с природой, и это первобытное мироощущение традиционно передается из поколения в поколение. Однако писательница не пытается идеализировать мир первобытного жизнеустройства, а видит, как он меняется.
Повествование начинается трагически ‒ с описания поминок по Огненной Траве. В начале рассказа мужчины из племени Ворона молча идут под дождем, направляясь на место проведения заупокойной службы по погибшей Огненной Траве. Фактически Огненная Трава значительную часть повествования отражается в памяти разных мужчин или в ассоциации с ними, причем сразу оказывается, что, будучи женой вождя племени, она имела отношения со многими мужчинами. По поводу ее смерти мужчины имеют различные догадки, испытывают разные ощущения, каждый из них сожалеет о ее кончине, в зависимости от степени своего общения с ней. Вождь переживает чувство безысходности, понимая неизбежность перемен, вестником которых стало безудержное стремление женщины вырваться из племени.
Огненная Трава желала безраздельно владеть только одним мужчиной, а не многими, и хотела устроить с ним жизнь вне племени, а такой формы отношений (патриархальной) в общине еще не существовало, поэтому ее мечты о новой семье не могли реализоваться и найти понимание у окружающих. Она не хотела принять тоскливой женской доли: не открывая глаз из-за едкого дыма, всю жизнь просидеть возле очага в качестве «болотной девки» при старой жене вождя. В ней горело желание построить другую жизнь, но оно не нашло отклика у мужчин.
В рассказе, из-за соперничества мужчин, назревает конфликт между интересами власти и чувством. Вождь понимал, что законы племени будут нарушены, если Огненная Трава останется в живых, уйдет из племени с Дроздом, а за ними потянутся и остальные. Он терял власть над сородичами, поэтому принял решение отравить Огненную Траву. Писательница показывает, что жизнь аборигенов Аляски претерпевает структурные изменения, рожденные новыми отношениями между людьми. Но мужчины препятствуют этим преобразованиям, руководствуясь рациональными соображениями, что и приводит к гибели молодую женщину. Рассказ пронизан сочувствием к страданиям героини. Необузданная страсть Огненной Травы нарушала сложившиеся устои, и при помощи молчаливого заговора мужчин, которые первоначально жаждали уничтожить друг друга, женщина была принесена в жертву.
В рассказе «Огненная Трава» рассматривается переломный момент в развитии семейных отношений в племени аборигенов Аляски, живущих вдали от западной цивилизации, но уже воспринимающих ее веяния. Автор анализирует эволюцию человеческого общества, в котором осуществляется переход от матриархата к патриархату.
Творчество Оба Минако гармонично вписалось в литературную ситуацию Японии, в которой наряду с произведениями, посвященными вопросам политической борьбы и социальным проблемам, появились сочинения, переключившие внимание читателя на анализ человеческих отношений в повседневной жизни, раскрывающие душевное состояние индивида. Художественный психологизм, свойственный произведениям писательницы, позволил ей выявить человеческую личность в многообразии ее качеств и свойств.
IMAGE OF ALASKA IN OBA MINAKO’S WORKS
Список литературы Образ Аляски в произведениях Оба Минако
- Оба Минако. Три краба / Пер. с яп. З. Рахима // Японская новелла 1960-1970. М.: Прогресс, 1972. С. 206-237.
- Оба Минако. Самбики-но кани [大庭みな子。三匹の蟹。東京:講談社]. Три краба. Токио: Коданся, 2003. 320 с.
- Оба Минако. Ямауба-но бисё [大庭みな子。山姥の微笑 // 女性文学。現代。東京:おうふう]. Улыбка горной ведьмы // Женская литература. Современность. Токио: Офу, 2007. С. 51-60.
- Мидзута Мунэко. Сакка аннай [水田宗子。作家案内 // 大庭みな子。三匹の蟹。東京:講談社]. Рассказ о писательнице // Оба Минако. Три краба. Токио: Коданся, 2003. С. 307-317.
- Эгуса Мицуко. Оба Минако [大庭みな子。 // 渡航する作家たち。東京:翰林書房] // Оба Минако. Писатели-путешественники. Токио: Канрин сёбо, 2012. С. 149-160.
- Эгуса Мицуко. Оба Минако но сэкай. Арасука, Хиросима, Ниигата [江種満子。大庭みな子の世界。アラスカ・ヒロシマ・新潟。東京:新曜社]. Мир Оба Минако. Аляска, Хиросима, Ниигата. Токио: Синьёся, 2001. 311 с.
- Contеmporary Japanese Writers. Tokyo: JLPPC, 2008. Vol. 2. 111 p.
- Fairbanks K. Japanese Women Fiction Writers. Lanham: Scarecrow Press, 2002. 647 p.