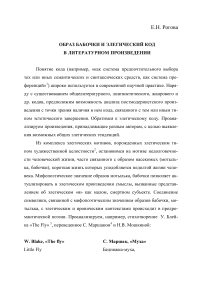Образ бабочки и элегический код в литературном произведении
Автор: Рогова Евгения Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Прочтения
Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.
Бесплатный доступ
Постмодернизм, элегический код, бабочка
Короткий адрес: https://sciup.org/14914071
IDR: 14914071
Текст статьи Образ бабочки и элегический код в литературном произведении
Понятие кода (например, «как система предпочтительного выбора тех или иных семантических и синтаксических средств, как система пре-ференций»1) широко используется в современной научной практике. Наряду с существованием общелитературного, лингвистического, жанрового и др. кодов, предположим возможность анализа постмодернистского произведения с точки зрения наличия в нем кода, связанного с тем или иным типом эстетического завершения. Обратимся к элегическому коду. Проанализируем произведения, принадлежащие разным авторам, с целью выявления возможных общих элегических тенденций.
Из комплекса элегических мотивов, порожденных элегическим типом художественной целостности2, остановимся на мотиве недолговечности человеческой жизни, часто связанного с образом насекомых (мотылька, бабочки), короткая жизнь которых уподобляется недолгой жизни человека. Мифопоэтическое значение образов мотылька, бабочки позволяет актуализировать в элегическом произведении смыслы, вызванные представлением об элегическом «я» как малом, смертном субъекте. Соединение символики, связанной с мифопоэтическим значением образов бабочки, мотылька, с элегическим и ироническим контекстами происходит в предро-мантической поэзии. Проанализируем, например, стихотворение У. Блейка «The Fly» 3, переведенное С. Маршаком4 и Н.В. Мошкиной:
W. Blake, «The fly»
Little Fly
С. Маршак, «Муха»
Бедняжка-муха,
Thy summer's play My thoughtless hand
Has brush'd away.
Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?
For I dance
And drink and sing, Till some blind hand Shall brash my wing;
If thought is life
And strength and breath, And the want Of thoughts is death;
Then am I
A happy fly, If I live, Or if I die.
Твой летний рай Смахнул рукою
Я невзначай.
Я – тоже муха: Мой краток век А чем ты, муха, Не человек?
Ведь я играю, Пою, пока Меня слепая Сметет рука.
Коль в мысли сила, И жизнь, и свет, И там могила, Где мысли нет, –
Так пусть умру я Или живу, – Счастливой мухой Себя зову.
Н.В. Мошкина переводит строку У. Блейка «Little fly» как «Маленький мотылек», предваряя подстрочный перевод замечанием следующего характера: «в 18 веке a fly означало любое маленькое насекомое»5. В пере- воде стихотворения Н.В. Мошкиной можно выделить, на наш взгляд, элегические смыслы, элегические мотивы:
Маленький Мотылек,
Твою летнюю игру
Моя бездумная рука
Смела прочь.
Не есть ли я
Мотылек, как ты?
Или не есть ты
Человек, как я?
Ведь я танцую,
И пью и пою,
Пока какая-нибудь слепая рука
Не сметет мое крыло;
Если мысль – это жизнь, и сила, и дыхание,
А отсутствие (необходимость, желание)
Мысли – смерть,
Тогда я есть
Счастливый мотылек,
Если я живу
Или если я умираю.
В подстрочном переводе Н.В. Мошкиной присутствуют элегическая характеристика недолгого существования мотылька («летняя игра») и мотив мизерности, малости («маленький мотылек»), мотив подвижности, не-прикрепленности к конкретному пространству, связанный с образами танца, крыла. В подстрочнике есть и мотивы предопределенности («слепая рука сметет») и несвободы («я счастливый мотылек, если я живу или если я умираю»), отсылающие уже к романтической иронии, двойственности человеческой природы (человек – одновременно «мысль, сила и дыхание» и «смерть»). В последней строфе возникает мотив круга, замкнутости: выбирает лирический субъект мысль, жизнь или смерь, – он всего лишь «счастливый мотылек».
В версии С. Маршака a fly переводится как муха, что способствует, на наш взгляд, созданию иронического смысла произведения. В отличие от нейтрального образа маленького насекомого и элегического образа мотылька, образ мухи представляет собою поэтически сниженный образ (ассоциируется с бытом, миром изобилия). Последние строки «Счастливой мухой / Себя зову» указывают на наличие иронии, вызванной стремлением лирического героя проявлять активность (герой определяет свою сущность, дает себе имя) в завершении себя и мира, в то время как сам он находится в руках судьбы.
В стихотворении У. Блейка «The Fly» композиция, построенная на параллелизме, сочетается с кольцевой. Элегические мотивы преодолеваются ироническими, сравнение жизни лирического героя с короткой жизнью насекомого сменяется мотивами нечеткости границ между миром человека и миром насекомого, между мыслью и ее отсутствием, жизнью и смертью, свободой и предопределенностью, возможностью и невозможностью счастья.
Известное стихотворение А. Фета «Бабочка»6 построено как ответ-реплика, частично воспроизводящий вопросы «собеседника», предпола- гаемого участника диалога, названного в тексте стихотворения «ты». Центральной словесной темой данного произведения является тема недолговечности бабочки. «Воздушное очертанье», «живое миганье», бесцельность, легкость, дыхание, сверкание – образы, характеризующие бабочку и способствующие созданию символического значения произведения, посвященного красоте, искусству, квинтэссенции жизни и ритма, их самоценности. Стихотворение написано вольным размером, в тексте чередуются строки 2 и 5-стопного ямба, длинные стихи перемежаются короткими. Часть длинных строк может быть рассмотрена как отголоски вопросительных реплик несуществующего, но предполагаемого собеседника, которому «отвечает» бабочка. В стихотворении отражены две точки зрения на существование бабочки: точка зрения «ты», связанная с образами со значением «недостаточности» качества («одним воздушным очертаньем», «лишь два крыла»), и «точка зрения» бабочки, не спорящей, но соглашающейся с «ты» («Ты прав…»). Чередование длинных и коротких стихов создает ритм, напоминающий ритм дыхания, ассоциирующийся с одной из характеристик образа бабочки, с легкостью, движением ее крыльев. На уровне строфики чередование стихов разного размера создает рисунок, напоминающий бабочку с развернутыми крыльями.
Пространственная характеристика образа бабочки развивает мотив недолговечности существования всего, что она символизирует: «Здесь на цветок я легкий опустилась». Пространство здесь по-элегически мало (цветок), сконцентрировано («здесь»), «уединенно». Цветок «по самой своей природе это символ мимолетности, весны и красоты» и, одновременно, «образ «Центра» и архетипический образ души»7, «Бога»8. Возникает ассоциация со строками У. Блейка: «В одном мгновенье видеть вечность и небо в чашечке цветка». Образы бабочки и цветка в данном стихотворении являются контекстуальными синонимами. По логике романтической иронии, в данном случае «лишь два крыла», ничто, символизируют жизнь. Времен- ная характеристика образа бабочки («вот-вот сейчас») связана с элегическими временными параметрами, краткостью, раздробленностью времени на мгновения. На уровне ритмической композиции выделяются последние два стиха «Бабочки»:
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.
В единственном стихе, написанным пятистопным ямбом, отсутствуют отступления ритма от метра, и имеется пропуск метрического ударения на первой стопе в коротком стихе. Выделяются строки, содержащие такие элегические временные характеристики образа бабочки, как краткость, мгновенность ее существования, способствующие формированию мотивов движения, неприкрепленности к постоянному пространству, «странничества». Наличием единственного в стихотворении сверхсхемного ударения (на первой стопе) маркируется строка, содержащая элегические характеристики малого, точечного пространства: «Здесь на цветок я легкий опустилась».
В стихотворении И.А. Бунина «Настанет день – исчезну я»9 образ бабочки связан с мотивом недолговечности человеческой жизни и, одновременно, с мотивом природы, лишенной рефлексии. Основным событием, определяющим особенности мироощущения лирического героя стихотворения И.А. Бунина, является день грядущей смерти. Все стихотворение является «мечтой» о мире, в котором уже не будет «я» героя. Основной оппозицией произведения выступает противопоставление «исчезну я, а в этой комнате пустой все то же будет», определяющее особенности синтаксической композиции, в сочинительных конструкциях закрепляющей мысль о неизменности (все то же будет) и продолжении существования мира после смерти героя. В стихотворении глаголу совершенного вида
«исчезну», связанному с местоимением «я», противопоставлены глаголы несовершенного вида будущего сложного времени «будет залетать, порхать, манить, шуршать, трепетать, смотреть». В мире без лирического героя продолжится движение, направленное на преодоление ограниченности земного существования. Это попытки преодоления лишены осознанности, направленности, перспективности и соотносятся с движением в мире природном, с образом бабочки, символизирующей красоту, яркость, легкость, мгновенность жизни:
И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку –
Порхать, шуршать и трепетать По голубому потолку.
Каждая строфа содержит параметры замкнутого пространства – комната (в первой строфе), «голубой потолок» (вторая строфа), «неба дно» (третья строфа), – актуализирующие мотив несвободы, ограниченности. Образы «голубой потолок» и «неба дно» являются контекстуальными синонимами. В соотношении внутреннего (человеческого) пространства и внешнего (природного) присутствует направленность в мир внутренний: «будет залетать бабочка», «будет неба дно смотреть в открытое окно». В данном тексте происходит постепенное размыкание границ между предметным миром и природой, открытое окно символизирует распахнутость, готовность к приятию присущих человеку иллюзий, связанных с представлением о свободе:
И так же будет неба дно Смотреть в открытое окно, И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.
Образ пустынного простора связан с мотивом отсутствия души и сознания в мире. Присутствие или отсутствие в нем человека ничего не меняет.
На уровне ритмической композиции в стихотворении маркируется строка, в которой метрическая и ритмическая композиции совпадают: «Настанет день – исчезну я». Ритмически выделяется стих, содержащий центральную тему знания о смерти лирического «я». Последняя строка стихотворения имеет то же совпадение ритмической и метрической композиций: «Манить в простор пустынный свой». Это стих содержит тему иллюзорности человеческих надежд в отношении окружающего бытия, лишенного души («пустынный простор» был таким же и при жизни лирического «я»). Первая и последняя строки, таким образом, создают ритмическое кольцо, как создается тематическое кольцо, связанное с развитием с повторением мотива ограниченности человеческого знания и пустоты окружающего мира.
Перед нами, как и в стихотворении У. Блейка «Мотылек», соединение элегических и иронических мотивов. Ирония в стихотворении И.А. Бунина «Настанет день – исчезну я» преобладает, человек ограничен в своем стремлении обрести свободу, а мир предстает как экзистенциальная пустота10. Образ бабочки связан со скрытым параллелизмом: тщетные усилия человека преодолеть заданные рамки земного существования уподобляются усилиям бабочки вырваться за пределы потолка, комнаты.
Образ бабочки соотносится с мотивами недолговечности и предопределенности и в японской лирике. В поэзии М. Басе есть стихотворение, в котором присутствует образ бабочки, связанный с мотивом бренности человеческого существования:
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу11. (Перевод В.Н. Марковой.)
В.Н. Маркова, исследователь японской литературы, говорит о настроении саби, характерном для поэзии М. Басе и, на наш взгляд, присущем стихотворению о бабочке. Понятие саби является одним из важнейших в символике японского искусства: «“Саби” происходит от того же корня, что и имя прилагательное “сабиси” – “одинокий”, “печальный” <...> в саби был оттенок ужаса перед миром»12. Саби у М. Басе «становится художественным методом познания скрытой сущности мира, понимаемой как “бездеятельная, неизменная вселенная”»13.
Изысканное и простое, скрытая красота уходящего мгновения выражается в образе бабочке на цветке. Через малое и частное, образы недолговечных бабочки, цветка и росы постигается смысл бытия: «здесь преодолено частичное и частное понимание вещей: мир увиден через единичное, одинокое, печальное в его отрешенной и сокровенной красоте»14. В стихотворении М. Басе темы красоты, смертности, мгновения, вечности объединяются в символике бабочки. Текст, безусловно, представляет собою отражение поэтического канона, традиции, но содержит и личное начало, необходимое в традиции дзэн-буддизма для просветления-освобождения15. Можно сравнить светлую печаль саби, связанную с образом бабочки стихотворения М. Басе, с элегической печалью.
В творчестве В. Набокова бабочка является «среди многих “именных знаков” одним из самых узнаваемых и постоянных»16. Стихотворение «Бабочка» В. Набокова написано гекзаметром. Это подражание античному размеру неизбежно влечет за собою образный ряд, связанный с темами вечности, искусства, красоты. Можно говорить о метрических ассоциациях, ведущих к античной элегии и элегическому дистиху. Эпический, длин- ный размер стихотворения придает образу набоковской бабочки определенную монументальность. Стремление автора подчеркнуть связь с поэтической традицией проявляется также в наличие аллюзии на стихотворение А. Фета «Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь!» (у В. Набокова: «Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!»17).
Традиционно бабочка соотносится с образом цветка, в стихотворении В. Набокова бабочка находится на стволе («Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья»). Мифопоэтическое значение подобной пространственной характеристики – в прямой аналогии с мировым древом. Бабочка расположена «на стволе» мирового древа, на оси мира, в центре вселенной. Мгновение и вечность, таким образом, как и в стихотворении М. Басе, рассмотренном выше, соединяются в образе бабочки. Бабочка у В. Набокова – это символ центра мира, Бога («О, как ликуют они, как мерцают божественно!») и искусства. Бабочка-ночь («голубоокая ночь в раме двух палевых зорь») в стихотворении В. Набокова может быть связана не только со стихотворением А. Фета «Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе ночь!», но и с романтическим образом ночи-эроса, символа творчества и гармонии Новалиса из «Гимнов к ночи». Как и в стихотворении И.А. Бунина «Настанет день – исчезну я» («цветная бабочка…по голубому потолку») бабочка у В. Набокова ограничена, заключена в рамки («ночь в раме двух палевых зорь») природой, своей смертностью.
Бабочка в контексте стихотворения В. Набокова соотносится с элегическим мотивом воспоминания, юностью лирического субъекта, его мечтами: «Здравствуй, греза березовой северной рощи! / Трепет и смех, и любовь юности вечной моей». Контекстуальный синонимический образный ряд формирует элегический смыслы: бабочка – греза – березовая северная роща – юность – Серафим. Абсолютной ценностью для лирического «я» является прошлое, воплощенное в образе бабочки, пробуждающей воспоминания о грезах юности.
На первый взгляд, образ Серафима в последних стихах доказывает наличие в произведении элегического мотива воспоминания, воскрешения посредством искусства. С образом Серафима связан мотив избранности и, одновременно, предопределенности, несвободы: «Один из серафимов очищает уста пророка, коснувшись их горящим углем, который он берет клещами с жертвенника, и этим приготовляет его к служению»18. У В. Набокова Серафим – это имя собственное, выделяется мотив личной судьбы и несвободы; здесь присутствует романтическая (ироническая) трактовка темы творчества: поэт – пророк и марионетка в руках судьбы. Открытость финала стихотворения В. Набокова также может быть соотнесена с романтической иронией, так как встреча с Серафимом, искусством, юностью, бабочкой связаны с планом будущего времени, реальность и мечта разобщены:
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье, Крылья узнаю твои, этот священный узор.
В стихотворениях «Бабочка» и «Муха» И. Бродского преобладает ироническая картина мира. В «Бабочке» в основе произведения – композиционный параллелизм. У И. Бродского, так же как и в стихотворениях У. Блейка «The fly», А. Фета «Бабочка», В. Набокова «Бабочка», бабочка является символом мгновенности существования и вечности, красоты, творчества и ограниченности, несвободы. Как и у В. Набокова, центральной является параллель «красота формы в природе и искусство»:
Когда летишь на луг… Приобретает форму Сам воздух вдруг
Так делает перо,
Скользя по глади
Расчерченной тетради,
Не зная про
Судьбу своей строки,
Где мудрость, ересь Смешались…19
Элегические характеристики краткого времени бабочки («сказать, что ты мертва? / Но ты жила лишь сутки») и человека в стихотворении И. Бродского включены в рамки иронической целостности. Образ бабочки приобретает в контексте стихотворения привычное ироническое звучание:
Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
И зримее. Внутри же на все на сто ты родственна ему.
В твоем полете
Оно достигло плоти;
И потому
Ты в сутолке дневной
Достойна взгляда
Как легкая преграда
Меж ним и мной20.
В последней строфе «Бабочки» И. Бродского возникает образ Ничто, экзистенциальной пустоты, частью которой является сам человек, чья жизнь, как искусство и форма, – лишь повторяющиеся попытки наделить мир смыслом. Образ бабочки воплощает собою (в духе романтической иронии) отсутствие четких границ между формой и бесформенностью, смыслом и абсурдом, жизнью и смертью.
В постмодернистком романе Саши Соколова «Школа для дураков» образ бабочки выполняет функцию поэтического слова-сигнала, связанного с комплексом элегических и иронических ассоциаций: «Я замечаю, что бабочка, которая сидит в трех шагах от меня, на излуке высокого снежного свея, расправляет крылья, собираясь взлететь. Я распахиваю калитку и бегу, но бабочка замечает меня раньше, чем успеваю накрыть ее шапкой своей: скрывается меж кустарников и крестов. По колено в снегу бегу я за ней, скорбно, стараясь не глядеть на фотографии тех, кого нет; их лица освещены заходящим солнцем, лица их улыбаются. Сумерки опускаются из глубины неба. Бабочка, мелькавшая иногда тут и там, совсем пропадает. И ты остаешься один среди кладбища»21.
Образы бабочки на кладбище, фотографий умерших, воспоминания одинокого ребенка теряют в контексте романа однозначное элегическое значение, так как бабочка – это одновременно и снежинка, а рассказчик лишен целостности мировосприятия (в произведении присутствует мотив болезни, шизофрении). Перед нами образчик постмодернисткого дискурса, предполагающего затрудненное восприятие произведения и в то же время обладающего поэтической образностью, направленной на быстрое и сильное воздействие на читателя. Элегический ряд мотивов связан с воспоминанием о прошлом, детстве, с элегической печалью. Отсутствие границ между настоящим и прошлым, воображаемым миром и реальностью формирует особую игровую языковую ситуацию, возрождает иронические смыслы.
Элегический и иронический коды, порожденные образом бабочки, сосуществуют в романе Саши Соколова «Школа для дураков»; создается картина мира, в которой принципиальным является одновременное нали- чие элементов разных типов художественного оцельнения. Образ-сигнал «бабочка» способствует актуализации мифопоэтических значений, формирующих воспроизводимую связь элементов элегической и иронической поэтики произведения. В проанализированных нами текстах возникают повторяющиеся темы, связанные с бабочкой: мгновение, вечность, искусство, красота, предопределенность, несвобода. В данных произведениях обнаруживается наличие общих черт на композиционном, сюжетном, мифопоэтическом уровнях. Наличие устойчивых и воспроизводимых элементов элегического и иронического позволяет в постмодернистском высказывании, лишенном целостности, опираться в эстетической игре на первоосновные, кодовые модусные смыслы, порождаемые словами-«импульсами» – образами-сигналами.
-
1 Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998. С. 161.
-
2 Тюпа В.И. Эстетическая деятельность // Теория литературы: В 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 70.
-
3 Blake W. The Fly // Западная поэзия конца XVIII–XIX веков. М., 1999. С.24.
-
4 Перевод С. Маршака цит. по изданию: Вильям Блейк в переводах С. Маршака. М., 1965. С. 88–89.
-
5 Западная поэзия конца XVIII–XIX веков. М., 1999. С. 24. Перевод Н.В. Мошкиной приводится по этому изданию.
-
6 Далее текст стихотворения «Бабочка» приводится по изданию: Фет А.А. Стихотворения, поэмы; современники о Фете. М., 1988. С. 258.
-
7 Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 560.
-
8 Там же. С. 561.
-
9 Бунин И.А. Настанет день – исчезну я // Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. Стихотворения 1888–1952. Переводы. М., 1987. С. 336–337.
-
10 См.: Тюпа В.И. Указ. соч. С. 77.
-
11 Басе Мацуо. И осенью хочется жить // Басе Мацуо. Великое в малом. СПб., 2000. С. 50.
-
12 Маркова В.Н. Стихотворение Басе «Старый пруд» // Басе Мацуо. Указ. соч. С. 500.
-
13 Там же. С. 501.
-
14 Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 199.
-
15 Там же. С. 199.
-
16 Бетея Д.М. Изгнание как уход в кокон: образ бабочки у Набокова и Бродского // Русская литература. 1991. № 3. С. 168.
-
17 Набоков В. Бабочка // Набоков В. Стихотворения. М., 1991, С. 45.
-
18 Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 427.
-
19 Бродский И. Бабочка // Избранные стихотворения 1957–1992. М., 1994. С. 239.
-
20 Там же. С. 240.
-
21 Соколов С. Школа для дураков. СПб., 2001. С. 142–143.
Список литературы Образ бабочки и элегический код в литературном произведении
- Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998. С. 161.
- Тюпа В.И. Эстетическая деятельность//Теория литературы: В 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 70.
- Blake W. The Fly//Западная поэзия конца XVIII-XIX веков. М., 1999. С.24.
- Вильям Блейк в переводах С. Маршака. М., 1965. С. 88-89.
- Западная поэзия конца XVIII-XIX веков. М., 1999. С. 24.
- Фет А.А. Стихотворения, поэмы; современники о Фете. М., 1988. С. 258.
- Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 560.
- Там же. С. 561.
- Бунин И.А. Настанет день -исчезну я//Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. Стихотворения 1888-1952. Переводы. М., 1987. С. 336-337.
- Тюпа В.И. Указ. соч. С. 77.
- Басе Мацуо. И осенью хочется жить//Басе Мацуо. Великое в малом. СПб., 2000. С. 50.
- Маркова В.Н. Стихотворение Басе «Старый пруд»//Басе Мацуо. Указ. соч. С. 500.
- Там же. С. 501.
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика//Теория литературы: В 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 199.
- Там же. С. 199.
- Бетея Д.М. Изгнание как уход в кокон: образ бабочки у Набокова и Бродского//Русская литература. 1991. № 3. С. 168.
- Набоков В. Бабочка//Набоков В. Стихотворения. М., 1991, С. 45.
- Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 427.
- Бродский И. Бабочка//Избранные стихотворения 1957-1992. М., 1994. С. 239.
- Там же. С. 240.
- Соколов С. Школа для дураков. СПб., 2001. С. 142-143.