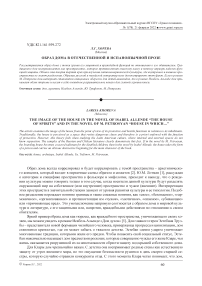Образ дома в отечественной и испаноязычной прозе
Автор: Хорева Лариса Георгиевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается образ дома с точки зрения его защитной и враждебной функций по отношению к его обитателям. Традиционно дом воспринимается как пространство, которое противостоит опасному хаосу и потому априори наделен функцией защиты. Однако эта теория терпит крах при изучении латиноамериканской культуры, где внутреннее и внешнее пространства не знают разделения. Образцы русской и чилийской литератур ясно демонстрируют этот факт. Если в романе М. Петросян дом-интернат становится священным оберегом для детей-инвалидов, то в романе Исабель Альенде дом принимает облик тюрьмы и несет в себе очевидное разрушительное начало для главной героини книги.
Дом, архетип, исабель альенде, ю. трифонов, м. петросян
Короткий адрес: https://sciup.org/148324016
IDR: 148324016 | УДК: 821.161.939.272
Текст научной статьи Образ дома в отечественной и испаноязычной прозе
Образ дома всегда коррелировал и будет коррелировать с темой пространства - архетипического концепта, который входит в первичные схемы образом и сюжетов [2]. Ю.М. Лотман [1], рассуждая о категории и специфике пространства в фольклоре и мифологии, приходит к выводу, что о рождении культуры можно говорить только в том случае, когда носители данной культуры будут разделять окружающий мир на собственное (или внутреннее) пространство и чужое (внешнее). Интерпретация этих пространств в значительной степени зависит от уровня развития культуры и ее типологии. Подобное разделение порождает понятие границы и такие смежные понятия, как «свое», «безопасное», «гармоничное», «организованное» и противостоящие им «чужое», «хаотичное», «опасное», «убивающее» или «причиняющее вред». Это умозаключение напрямую соотносится с образом дома в мировой культуре и литературе, с его защитными или, напротив, враждебными действиями по отношению к своим обитателям.
Яркий пример образа дома как тюрьмы, как враждебного пространства, уничтожающего своих хозяев, мы можем увидеть в романе Исабель Альенде «Дом духов» [5]. Для главного героя Эстебана Труэ-бы – представителя новой формации чилийского человека, приверженца прогресса и цивилизации, дом становится крепостью, где он может забыть о тяжелом детстве. Эстебан одним ударом уничтожает многовековые традиции, которыми жили его предки. Чтобы повысить свой социальный статус, Эстебан максимально насыщает дом предметами роскоши, которые совершенно чужды его жене Кларе, чья жизнь оказывается разрушенной из-за невозможности обрести защиту под крышей собственного дома.
Для Клары дом чрезвычайно важен. С детства она воспринимает родные стены как естественную защиту от угроз внешнего мира, но это ощущение безопасности рушится в день смерти старшей сестры, которую случайно отравили конкуренты отца. С этого момента Клара четко понимает, что дом, увы, несмотря на крепкие стены, отнюдь не разделяет внешнее (опасное) пространство и внутреннее (безопасное). С возрастом это чувство только крепнет. Пространство дома разомкнуто и остается таковым до самого конца, несмотря на то, что Клара, ее дочь и внучка всячески пытаются выстроить ту крепость, которая должна защитить их от жизненных невзгод.
Дом становится символом этнической картины мира латиноамериканцев, которые проводят знак равенства между внешним и внутренним. Дом является для них таким же воплощением внешнего пространства, как и лес, полный опасных существ. Не случайно, в произведениях Хулио Кортасара, Х.Л. Борхеса, Г. Гарсиа Маркеса, И. Альенде и других знаковых писателей дом всегда выступает как враждебное начало, готовое уничтожить своих обитателей.
Говоря об отечественной литературе, Ю. Лотман обычно делал акцент на защитной функции дома, однако дом в русской традиции далеко не всегда выступает действительно защищающим пространством. Об этом свидетельствует «Дом на набережной» Ю. Трифонова [4].
Как известно, образ Дома на набережной уходит корнями в реальную историю. 11 марта 1918 г. советское правительство переезжает из Петрограда в Москву, в связи с чем возникает острая необходимость в жилых квартирах для работников государственного аппарата. Острая нехватка таковых привела к решению о строительстве дома специально для чиновников. 24 июня 1927 г. был подписан соответствующий приказ. Дом был построен к концу 1931 г., в этом же году новоселье отпраздновали представители советской элиты: высшие чиновники, писатели, старые коммунисты и большевики, герои Советского Союза, высшие военные чины, герои Социалистического Труда и т. д. Дом был огромный, он был рассчитан на несколько тысяч человек, что для того периода было невероятным явлением и поражало воображение многих. Архитектор знаменитого Дома также стал его жителем, в новой квартире он уже проектирует строительство нового гигантского сооружения - Дворца Советов, который планировали построить на месте уничтоженного Храма Христа Спасителя. Помимо своих прямых обязанностей, по воспоминаниям обитателей Дома, Архитектор Иофан выполнял еще роль защитника своего творения, бдительно следя, чтобы никто из жителей дома не переделывал свои квартиры, не прорубал дополнительные окна или двери, не перекрашивал стены в иной цвет и даже не переставлял мебель.
В. Паперный, изучая феномен Дома на набережной, говорит о появлении так называемой Культуры Два, которая характеризуется централизованным центром, поскольку именно там теперь сконцентрированы все ценности общества. Ценности периферии отныне просто перестают существовать. Общество застывает в своем развитии. Культуре Два противостоит Культура Один, которую В. Паперный именует вертикальной и характеризует ее как децентрализованную.
Эта модель Культуры 1 и Культуры 2 используется в дальнейшем культурологами и антропологами для описания исторических событий 1930–1950-х годов.
Превалирование модели Культуры 2 означало, что в каждой группе людей, в каждом коллективе был свой центр, в жертву которому люди приносили свои интересы. В масштабах всей страны таким центром был И. Сталин, олицетворяющий верховную власть.
Дом на Набережной становится также еще и символом нового строительства во всех смыслах этого слова, поскольку социалистическое строительство подразумевало также формирование нового человека в идеологическом плане.
Кроме того, Дом на набережной стал символом победившего социализма: обитатели Дома пользовались всеми привилегиями комфортного проживания – от телефонов, патефонов и радио в каждой квартире до обеспечения культурного досуга: комплекс располагал библиотекой, спортивным залом, детским садом, амбулаторией, прачечной, почтой, сберкассой, столовой.
Ю. Трифонов не понаслышке знал о Доме на Набережной, поскольку его семья жила там восемь лет вплоть до ареста отца в 1939 г. После расстрела отца и ареста матери, Юрий вместе с бабушкой были выселены из Дома на окраину города в бараки, так что контраст жизни рядовых граждан советского государства и партийной номенклатуры был продемонстрирован еще ярче.
Детские впечатления навсегда сохранились в памяти писателя, который сделал эту антитезу основной в своем романе, который свое название «Дом на набережной» получил только перед самой публикацией. Первоначальным вариантом была «Софийская набережная», но впоследствии писатель решает изменить его, справедливо полагая именно мотив дома является основным в своей книге. Об этом, в частности, свидетельствует последний эпизод романа, в котором Шулепников едет на трамвае по набережной и разглядывает бесформенный серый дом, находит привычно свое старое окно и мечтает о чуде в своей жизни, которое обернется возвращением в этот дом.
Несмотря на то, что дом является плоть от плоти порождением советской эпохи и сочетает в себе целый ряд мотивов советской эпохи - новой централизованной культуры, светлого комфортного будущего советских граждан, он становится также архетипом периода разоблачения культа личности вождя: мотив краха идей социализма и коммунизма, в которые верили обитатели дома.
Отношение к жизни и внезапному комфорту у жителей Дома было разным. Семья Шулепниковых наслаждалась богатством, превратив свой дом в музей, в то время как их соседи Овчинниковы довольствовались максимально простой обстановкой. Точки зрения на Дом также не совпадают у его жителей: Шулепниковы и Ганчуки восхищены Домом и предлагаемыми условиями проживания, но в тоже время абсолютно не принимают советского уклада, он им кажется странным и недружелюбным. Полный контроль над всеми жителями убивает всю притягательность жизни там. Эмоциональная составляющая жизни Дома ужасна: жильцы постоянно пребывают в страхе за свое благополучие и жизнь в целом, боясь в любой момент лишиться всего.
Вадим Глебов, один из героев романа, восхищен Домом, он изо всех сил стремится вырваться из того круга общения, который ему определила судьба. Символом перехода на иной круг существования становится Дом. Именно это серое здание Глебов наделяет поистине мифической силой хтониче-ского божества, способного в секунду изменить жизнь человека. Пользуясь любой возможностью приблизиться к жизни небожителей, Глебов остро ощущает несоответствие между родным Дерюгинским подворьем и миром небожителей, тем более что разделяет их только Софийская набережная. Оставаться в буквальном и символическом смысле в тени Дома Глебов не намерен. Это желание становится идеей фикс Вадима Глебова, движущим мотивом всех его поступков. Глебов подражает во всем Левке Шулепникову, в конце концов проникает в Дом, но своим там так и не становится. Дои избирателен, подобное живому существу, он буквально на запах распознает своих и чужих. Семья Ганчуков так и не приняла Глебова: Соня мешает ему общаться с отцом, профессор Ганчук страдает забывчивостью каждый раз, когда речь заходит про Вадима, а мать Сони раздражается каждый раз, когда видит его, хотя и сама порой не может объяснить себе причины своего раздражения.
Несмотря на то, что Дом на набережной является доминирующим и сюжетообразующим компонентом, в романе мы видим далеко не одно жилище. Рядом с Домом существует еще и Дерюгин-ское подворье, и дача Ганчуков. Здесь мы наблюдаем качественно противоположное мнению писателей XIX столетия об усадьбе: если для последних усадьбы была раем на земле, то для Трифонова – загородный дом становится признаком полного душевного упадка: безалаберное строение со сгнившими дверью и оконными рамами, недостроенным вторым этажом. Дача, в отличие от Дома, принимает Глебова без каких-либо условий, но последнего это совсем не радует, поскольку дача не обладает таким статусом, как Дом, который в итоге так и остается призрачной мечтой.
Рассказчик, который присутствует в романе, представляет еще одну точку зрения на сюжет. Рассказчик становится антагонистом Вадима Глебова, своим мнением оттеняет его поступки, делая их контуры еще более яркими. Рассказчик любит Соню, буквально боготворит ее, для Глебова же Соня является бесплатным приложением к Дому и ничем иным.
Рассказчик является коренным обитателем Дома, он предается ностальгическим воспоминанием о детстве, в этих воспоминаниях дом окрашен в теплые, солнечные тона, которые так не похожи на впечатления его сотоварищей.
Суммируя все вышесказанное, мы можем констатировать тот факт, что Пространство Дома на набережной буквально пропитано враждебностью по отношению к своим обитателям. Дом оказыва- ет разрушительной действие на своих жителей, калечит их психику, часто забирает жизни. В романах Ю. Трифонова ярко проявляется архетип дома - врага, который был не характерен для русской картины мира XIX – начала XX столетия. Его появление обусловлено спецификой исторической ситуации, и отражает судьбы людей, живших в 30-е гг. XX столетия.
В романе М. Петросян «Дом, в котором...» [3] представлен иной образ дома. Мы видим интернат для детей инвалидов, который становится сакральным центром и оберегом для всех его обитателей. Глазами главного героя – маленького инвалида Кузнечика – мы изучаем его магическое пространство. Подобно множеству других детей, Кузнечик сначала ощущает свою незащищенность и воспринимает интернат как тюрьму. Однако потом Дом поворачивается к нему другой стороной и становится его настоящим защитником, даря все то, чего Кузнечик, как и многие дети инвалиды, был лишен в родительском доме. Для детей Дом выполняет функцию матери и отца. Он любит, заботится и защищает их. Особенно трепетно к нему относился Слепой. Интересно, что Дом даже стал источником питания для подростка, ведь он любил есть отсыревшую штукатурку. Дом обладает и божественным началом. Все, что происходит здесь зависит от его воли. Воспитатели говорили ученикам, что нельзя уйти и вернуться, когда пожелаешь. Дом может не принять второй раз.
Интересно и то, что М. Петросян дает читателям схему рождения архетипа Дома. Отмечается, что дети интерната любили сочинять разные небылицы и эта страсть родилась не на пустом месте. Дети превращали пережитое горе в суеверия, а они переходили в традиции, к которым быстро привыкали. Дом является хранителем истории и традиций. И главная задача последующих поколений хранить и преумножать их. Мы видим, как индивидуальная память сменяется родовой. Постепенно герои начинают разделять между собой одни и те же сны и галлюцинации. Так, Горбач жалуется, что Слепой залез в его сны и превратил их в кошмары. Учащиеся рисуют одинаковые сакральные рисунки и делятся личными дневниками.
Как и в романе «Дом духов», в интернате есть свои призраки, но они не несут опасности. Автор постоянно дает понять, что мир мертвых живет в гармонии с миром живых, По утрам расхаживали «уборщицы – невидимки», кто-то все прибирал и готовил еду. Дети описывают их как тихих и красивых, не причиняющих вреда. Увидеть их очень сложно, поэтому дети часто ставили ловушки, в которые никто никогда не попадался.
Интересно, что по идее, главами интерната должны являться директор и воспитатели. Однако мы видим, что пространство Дома принадлежит вовсе не взрослым, а учащимся. Воспитатели, учителя и директор присутствовали в Доме номинально, чтобы поддерживать порядок. Каждый раз, после ужина, все взрослые укрывались в своих комнатах, запирались на замки и пытались представить, что Дома вовсе нет.
Суммируя все вышесказанное, мы видим, что рассмотренные нами произведения показывают два тип культуры.
Одна культура (русская) делит пространство на внешнее и внутреннее, противопоставляя их по характеру воздействия: внешнее пространство стремится испытать человека и/иди уничтожить его; внутреннее пространство призвано защитить своего обитателя, но только того, кто прошел испытание. Русская культура второй половины XX в. подчеркивает этот момент особенно яркими красками.
Латиноамериканская культура такого разделения не знает: пространство дома расценивается как продолжение внешнего пространства и потому никогда не обладает защитными функциями.
Список литературы Образ дома в отечественной и испаноязычной прозе
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. СПб.: Семиосфера, Искусство-Спб, 2000.
- Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: Просвещение, 1994.
- Петросян М. Дом, в котором… М.: Лайвбук, 2019.
- Трифонов Ю. Дом на Набережной. М.: АСТ: Апрель, 2011.
- Allende, Isabel. La casa de los espiritus. Barcelona Plaza & Janes, 1982.