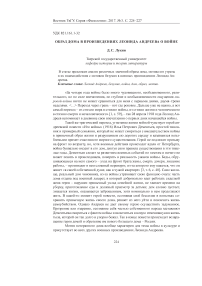Образ дома в произведениях Леонида Андреева о войне
Автор: Лукин Денис Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен анализ различных значений образа дома, мотива его утраты и их взаимодействия с мотивом безумия в военных произведениях Леонида Андреева.
Леонид андреев, безумие, война, дом, образ, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/146122078
IDR: 146122078 | УДК: 821.161.1-32
Текст научной статьи Образ дома в произведениях Леонида Андреева о войне
«За четыре года войны было много чудовищного, необыкновенного, разительного, но по силе впечатления, по глубине и необыкновенности ощущения мировой войны ничто не может сравниться для меня с первыми днями, двумя–тремя неделями. <…> Переход через грань – вот где роковое. Дальше уже не важно, а вот самый переход – из стихии мира в стихию войны, из стихии жизни и человеческого в стихию смерти и нечеловеческого» [1, с. 59], – так 28 апреля 1918 года Леонид Андреев вспоминает в дневнике свои впечатления о первых днях начавшейся войны.
Такой же трагический переход, угнетение жизни войной чувствует герой андреевской повести «Иго войны» (1916) Илья Петрович Дементьев, простой чиновник и примерный семьянин, который не может смириться с вмешательством войны в привычный образ жизни и разрушением ею дорогих сердцу и казавшихся незыблемыми примет счастливого мирного существования. Герой не подлежит призыву на фронт по возрасту, но, хотя военные действия происходят вдали от Петербурга, война буквально входит в его дом, диктуя свои правила существования в эти тяжелые годы. Дементьев следит за развитием военных событий по газетам и ничего не может понять в происходящем, поверить в реальность ужасов войны. Беды, обрушивающиеся на него самого – уход на фронт брата жены, смерть дочери, лишение работы, – производят в нем сложный переворот, из-за которого ему кажется, что он живет «в своей собственной душе, как в чужой квартире» [3, т. 6, с. 40]. Само жилище, реальный дом чиновника, из-за войны утрачивает свою функцию очага: часть дома отдана под военный лазарет, в который добровольно идет работать сиделкой жена героя – нарушен привычный уклад семейной жизни, не хватает времени на уборку, приготовление еды и должный присмотр за детьми; дом словно пустеет, лишается жизни, оказывается заброшенным, хотя номинально в нем продолжают жить. В какой-то момент герой повести, осознавая своё бессилие в попытках сохранить привычную жизнь своего дома, решает из него уйти и покончить жизнь самоубийством. Однако Андреев не дает своему герою осуществить задуманное. Прозрение или озарение, осознание себя частью собственного народа заставляют Дементьева смириться с фактом войны и включиться в новую изменившуюся жизнь тыла, которой он так долго и упорно бежал. Так в конце повести происходит возвращение героя домой и обретение им нового большего дома – России.
Мотив потерянного дома вообще характерен для темы войны в культуре и присутствует во всех других военных произведениях Леонида Андреева.
Вдали от родины и дома, в немецком плену в Бельгии, находится русский революционер, добровольцем отправившийся на войну, – герой рассказа «Ночной разговор» (1914). В пьесе «Король, закон и свобода» (1914) мотив утраты дома тесно связан со сквозным для творчества писателя мотивом безумия. К каждому встречному, живому и даже мертвому, с вопросом, как ей попасть домой, обращается сошедшая с ума девушка, чью родную деревню буквально стерли с лица Земли, лишив бедняжку дома, разума и покоя: «Это душа нашего народа бродит среди ночи и спрашивает трупы, как пройти ей к Лонуа» [Там же, т. 5, с. 378], «Никогда ей не найти дорогу к Лонуа!» [Там же, с. 392]. В спешке вынуждены покидать свой дом и город главные герои пьесы – принято трудное решение взорвать плотины и затопить часть Бельгии, чтобы вместе с ней утопить и вторгшуюся в неё вражескую армию. На протяжении всей пьесы постепенно сходит с ума Жанна, супруга главного героя – писателя Эмиля Грелье, за стратегическими советами к которому приходит сам король Бельгии. Окончательно она теряет власть над собой и своим разумом в конце пьесы, именно в момент бегства из дома и города. Дом традиционно является для человека крепостью, очагом, символом надежности и своего места в мире, поэтому его утрата ставит человека в трагическую ситуацию потерянности, выпадения из системы координат мира, ведет к безумию.
Безумие у Андреева – это вообще онтологическая характеристика жизни. Мотив безумия появляется уже в первых произведениях автора. В 1898 году Андреев пишет рассказ «Алеша-дурачок», в котором безумие – это буквально безмыслие, медицинский диагноз. На философский уровень проблему безумия писатель выводит уже в рассказе «Ложь» (1900): «О, какое безумие быть человеком и искать правды!» [Там же, т. 1, с. 291]. Одним из центральных мотив безумия становится в этапном тексте Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (1903) – истории о трансформации религиозного чувства и постепенном схождении с ума сельского священника. В доме для умалишенных происходит основное действие рассказа «Призраки» (1904).
Если безумие является устойчивой характеристикой самой жизни, закономерно, что война, как явление этой жизни, становится его крайним выражением. Словом «безумие» открывается одно из самых известных сегодня произведений Андреева – рассказ «Красный смех» (1904), в котором писатель, в экспрессионистской манере изображая безумства и ужасы войны, создает «своеобразную, от противного, апологию разума» [5, с. 223]. Мотив безумия, пронизывая все уровни рассказа, становится в нем основой авторской концепции войны: невозможно не сойти с ума, сталкиваясь с самим фактом войны, поэтому от человечества требуется разумное отношение к жизни как таковой, чтобы не допустить всеобщего сумасшествия, каким и является война.
В «Красном смехе», когда Леонид Андреев категорически отрицал любую войну в принципе, писатель более сложно, разнообразно и пессимистично, чем в произведениях о Первой мировой войне, общий пафос которых все же скорее оптимистический (верит в победу над Вильгельмом и Германией герой «Ночного разговора», полон надежды на будущее в финале пьесы Эмиль Грелье: «Клянусь Богом: Бельгия будет жива! <…> я вижу новый мир, я вижу новую жизнь!» [3, т. 5, с. 409]), разработал и мотив утраты дома.
В первой части рассказа, в которой представлены воспоминаниями одного из двух братьев о жизни на фронте, записанные вторым уже после смерти первого, этот образ представлен в виде навязчивых, каждый раз в точности повторяющихся воспоминаний и галлюцинаций, в которых в предельно конкретных художественных деталях нашла своё выражение тоска героя по дому, находящегося вдали от него: «уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин» [Там же, т. 2, с. 38]. В конце первой части герой, изувеченный войной, возвращается в родной дом и действительно видит эту преследовавшую его на фронте картину. Однако возвращение героя не становится обретением домом и семьей его самого – вернувшийся с фронта герой стремительно погружается в пучину безумия, пока не умирает в ней. Так образ потерянного дома в конце первой части рассказа Леонида Андреева трансформируется в образ потерянного для дома героя.
Во второй части рассказа, содержащей записи о событиях в тылу, свидетелем которых был уже второй брат, мотив потерянного дома обретает символическое значение: дом героя утрачивает свою функцию крепости, защиты, комфорта – Красный смех проникает и сюда, а трупы умерших, которые земля из себя исторгает, заполняют пространство не только вокруг дома, но и внутри него. Надежды на благополучный исход нет – финальная сцена рассказа предвещает конец света, то есть потерю всем человечеством своего общего дома – Земли.
Образ дома и мотив его утраты, таким образом, в военных произведениях Андреева полисемичны. Это утрата домом его основных функций как крепости и очага («Красный смех», «Иго войны»), разлука с домом, нахождение вдали от него («Красный смех», «Ночной разговор»», «Король, закон и свобода»), буквальное физическое уничтожение дома (Лонуа), конец света – гибель Земли («Красный смех». Сам же дом в этих текстах – это уклад домашней жизни, конкретное жилище, родина (город, страна) и Земля как дом человечества. Мотив потери дома, ценность которого писатель утверждает в своих произведениях о войне, созвучен мотиву потерянного рая, которым у Андреева становится привычный мирный образ жизни.
Леонид Андреев был сторонним свидетелем Англо-бурской, Русско-японской, Первой мировой войн и начала Гражданской войны в России, не принимая непосредственного участия ни в одной из них, но обвинения некоторых современников в том, что человек, не бывавший на войне, не может писать о ней, отвергал категорически (см. подробнее: [4, с. 147]). В 1900–1905 гг. писатель в своем творчестве отрицал любую войну как проявление всего неразумного и бесчеловечного, противоречие глубинным основам жизни, и саму возможность существования причин, оправдывающих ведение войн (см. подробнее: [6]). Во времена Первой мировой войны Андреев-публицист выступает с рядом статей, в которых обосновывает необходимость ведения военных действий до полной победы над германизмом. Публицистическим пафосом в этот период отмечены и его художественные произведения о войне. Поэтому, в отличие от «Красного смеха», в рассказе «Ночной разговор», повести «Иго войны» и пьесе «Король, закон и свобода» Андреев оставляет своим героям и читателям надежду на разумное разрешение трагическим событий и восстановление мирового порядка в будущем.
Однако война, как бы Леонид Андреев ни относился к той или иной конкретной войне как моменту истории, остается для писателя «страшнейшим из зол» [2, с. 8], бедой, страданием и ужасом, лишающими человека разума, дома, его места на Земле, всего, что для него важно и дорого. Поэтому так страшен и ошеломляющ этот переход из одной стихии в другую, из состояния мира в состояние войны. Но в то же время писатель признает, что война может быть, пусть и «самой печальной» [Там же], но необходимостью.
Список литературы Образ дома в произведениях Леонида Андреева о войне
- Андреев Л. Н. S.O.S.: Дневник (1914-1919); Письма (1917-1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918-1919). М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. 598 с.
- Андреев Л. Н. В сей грозный час: статьи. Петроград: «Прометей» Н.Н. Михайолова, 1915. 110 с.
- Андреев Л. Н. Собр. соч.: в 6 т. М.: Книговек, 2012.
- Иезуитова Л. А. «Красный смех», его литературное окружение, критика, анализ//Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература Серебряного века: Избранные труды. СПб.: Петрополис, 2010. С. 136-166.
- Келдыш В. А. Русский реализм начала ХХ века. М.: Наука, 1975. 280 с.
- Лукин Д. С. Концепция войны в творчестве Леонида Андреева 1900-1905 годов//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 324-327.