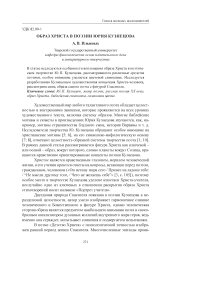Образ Христа в поэзии Юрия Кузнецова
Автор: Ильиных Анастасия Витальевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности воплощения образа Христа в поэтическом творчестве Ю.П. Кузнецова, рассматриваются различные средства поэтики, особое внимание уделяется цветовой символике. Исследуется разработанная Кузнецовым художественная концепция Христа-человека, рассмотрена связь образа самого поэта с фигурой Спасителя.
Ю.п. кузнецов, жанр поэмы, русская поэзия xx века, образ христа, библейская символика, символика цвета
Короткий адрес: https://sciup.org/146281566
IDR: 146281566 | УДК: 82.09-1
Текст научной статьи Образ Христа в поэзии Юрия Кузнецова
Художественный мир любого талантливого поэта обладает целостностью и внутренними законами, которые проявляются на всех уровнях художественного текста, включая систему образов. Многие библейские мотивы и сюжеты в произведениях Юрия Кузнецова изучаются, как, например, мотивы странничества блудного сына, история Вараввы и т. д. Исследователи творчества Ю. Кузнецова обращают особое внимание на христианские мотивы [5; 6], на его символико-мифологическую основу [7; 8], отмечают целостность образной системы творчества поэта [1; 10]. В рамках данной статьи рассматривается фигура Христа как ключевой – или осевой – образ, вокруг которого, словно планеты вокруг Солнца, вращаются нравственно ориентированные концепты поэзии Кузнецова.
Христос является нравственным эталоном, мерилом человеческой жизни, в его учении кроются ответы на вопросы, встающие перед поэтом, гражданином, человеком («Он истину мира сего / Принес на ладони тебе: / “Не мысли другому того, / Чего не желаешь себе”» [3, с. 105]), поэтому особое место в творчестве Кузнецова уделено ипостаси Христа-учителя, неслучайно одно из ключевых в отношении раскрытия образа Христа стихотворений носит название «Портрет учителя».
Двуединая природа Спасителя показана в поэзии Кузнецова в неразделимой целостности, автор умело изображает гармоничное слияние человеческого и Божественного в фигуре Христа, однако человеческая сторона образа является предметом наибольшего внимания поэта и своеобразным катализатором духовных коллизий внутреннего мира героя, ведь именно она страждет, испытывает сомнения и подвергается испытаниям.
В поэме «Детство Христа» с психологической точностью изображен ранний период жизни Спасителя. Многочисленные эпизоды прояв- ления Божественной сути Христа не затмевают его человеческой ипостаси: Христос улыбается и смеется, как обычный ребенок, что, несомненно, учитывая богословские дискуссии на данную тему, является сознательным художественным решением поэта. Впервые это происходит, когда Спаситель находится еще в колыбели: он улыбается, увидев дары пастухов, приношения «мира простого», и улыбается не только как человек, но как сущность двуединая – «от сердца и Духа Святого» [4, с. 401]. Добрый смех Христа раздается в ответ на поведение нерадивых учеников, как в эпизодах проповеди Учителя и переправе через пропасть, улыбается Спаситель Марии Магдалине и Петру (трилогия «Путь Христа»). Улыбка и смех позволяют автору придать образу Спасителя более земной оттенок, что связано с мыслью о несостоятельности идеи отвержения мира и человеческих чувств, затронутой и в стихотворении «Поэт и монах».
Спаситель строг и добр одновременно, одно мгновение его глаза сверкают гневом, но в следующее грозное чувство исчезает, сменяясь смехом (эпизод проповеди перед детьми в поэме «Детство Христа»). Как любой человек, Христос испытывает различные эмоции – гнев, радость, любопытство, печаль, – он подвержен сомнениям и переживает искушения земной жизни с самого детства: поэт вводит не единожды встречающийся мотив испытания Христа отражением («Искушение Христа», «Детство Христа»). Такой «заземленный» образ позволяет автору в дальнейшем без риска использовать в поэме «Сошествие в ад» по отношению к Богу определение «усмехнувшийся», которое в контексте другого произведения на религиозную тематику, возможно, показалось бы неуместным. В указанной поэме, действие которой происходит в период между смертью и воскресением Христа, в словах самого Спасителя наиболее ярко выражена его двуединая сущность: «– Боже! Ты плачешь! – Быть может! – ответил Христос. – / Только запомни: то утка подманная крячет, / То человечье во Мне, а не Божие плачет. / Полный печали и ужаса, я произнес: / – Боже! Ты страждешь? – Быть может! – ответил Христос. / Только запомни лица Моего выраженье: / То человек, а не Бог принимает решенье» [Там же, с. 531]
Известно, что в Библии отсутствует конкретное описание внешности Христа, но в творчестве Кузнецова Спаситель, как живой человек, описан довольно подробно, в частности, в стихотворении «Портрет учителя» и в поэмной трилогии «Путь Христа». Упомянем некоторые детали: он светло-рус, высок и прям, у него голубые (синие) глаза. Последняя деталь примечательна, ведь в творчестве Кузнецова слова с корнем голуб- маркируют присутствие Божественного, духовного. К примеру, эпитет голубиный используется в поэме «Зрелость Христа» шесть раз и так или иначе связан с образом Спасителя: его душа, печаль, ученики и сам учитель названы «голубиными», и, кроме того, рай описан с помощью этого эпитета. Словарь Ушакова дает следующее определение указанного прилагательного: «Кроткий, мягкий, смирный», с пометкой «устарелое» [9, с. 592], – это значение входит в ядро концепта «голубиный». Однако в контексте творчества Кузнецова данного слово приобретает и другие значения, и в интерпретационное поле концепта включаются такие понятия, как «духовный», «вечный», «глубинный», подкрепленные символическим содержанием слов «голубь», «голубой», «Голубиная книга», что существуют в образной системе творчества Кузнецова в целом. Так, голубь – символ мира и Святого Духа, голубой цвет – символ вечного и духовного, цвет небесного, а Голубиная книга («глубинная») – книга мира, которую писал Сам Христос. Последняя часто встречается в творчестве поэта в качестве образа, заимствованного из духовного стиха и адаптированного на почве поэзии Кузнецова как символ истины, завещанной Христом, «средство постижения устройства мира, его Божественных основ» [5, с. 60]. Таким образом, слово голубиный в контексте творчества Кузнецова приобретает новые, художественно обоснованные значения.
Образ Христа неразрывно связан и с солярными символами, цветовое значение которых наряду с семантикой других цветов в связи со звуковым строем стиха в своей статье исследует Т.М. Киреева [2]. Неслучайно в поэме «Детство Христа» Юрий Кузнецов вводит упоминание о том, что ребенком Иисус часто выходил в пустыню и неотрывно смотрел на солнце: «– Сын у Иосифа – чудище. Смотрит на солнце, / Глаз не отводит, как узник в цепях от оконца. / Если он смотрит на солнце, то может смотреть / Даже на Бога, на правду, на снег и на смерть…» [4, с. 402] Однако не единственно тем, что Спаситель может созерцать Божественную правду, объясняется указанный авторский эпизод: Христос сам есть свет – веры и знания, – поэтому солнце не слепит ему глаза. В Библии частичное описание внешнего облика Христа происходит после Его преображения и выглядит следующим образом: «…и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2) С этим связано использование цветового эпитета золотой , который контекстуально приобретает противоположные оценочные значения: в связи с миром духовным – положительные, в связи с миром бренным – отрицательные. Младенец Иисус отвергает золото – дар волхвов, – обращает его в угли и пепел, а предавший Христа Иуда требует в качестве платы золото, но получает серебро: в поисках золота земного он лишается злата небесного – мудрости, духовности, веры. Как указывает Т.М. Киреева, в поэмной трилогии «Путь Христа», первоначально носившей название «Золотое и синее», не единожды используется сравнительный оборот «как злато на сини», который можно интерпретировать, учитывая символическое значение цвета, как «Христос и Богородица» [2, с. 201].
Двуединость образа Спасителя художественно обосновывает и идею «живой», «человечной» веры. В диалоге «Поэт и монах» находим последовательное противостояние двух мироощущений и разных видов религиозности: в лице дьявола, принявшего личину монаха, и поэта. Первый стоит за аскетический, отвергающий материальные наслаждения взгляд на мир, сухую духовность в отвержении плоти, второй же, напротив, отстаивая ценность искусства, указывает: «Какой же ты христианин / Без чувственного постоянства? / Куда ты денешь, сукин сын, / Живые мощи христианства? / Так умертви свои уста, / Отвергни богово-площенье, / Вкушая плоть и кровь Христа / И принимая Причащенье!» [4, с. 393] Для поэта важен «живой» Христос, который «ходил по росе и сидел у ночного костра, освещенный, как все» [Там же, с. 325], – образ, позволяющий автору приблизить Учителя к пастве и сделать возможным достижение высшей духовности для каждого человека, ведь Царство Небесное, как указывает поэт в «Зрелости Христа», всем назначено в меру, присутствует в душах всех людей. И цель Учителя – помочь человеку установить связь с внутренним Царством Небесным, которого можно достичь, лишь приобщившись к живой, а не сухой, книжной вере.
Диалог монаха и поэта также важен в отношении понимания Юрием Кузнецовым места в мироздании поэта, чей образ напрямую связан с выражением нравственных ценностей автора. Творческая роль поэта, согласно Юрию Кузнецову, заключается в отображении духовных истин, что просвечивают и в чувственном мире: не только о страстях и зле, как замечает монаху собеседник, пишут поэты, ведь «что есть в уме, то есть и в чувстве, а значит, в сердце и в искусстве» [Там же, с. 393]. Следовательно, ценность творчества поэта зависит от духовности последнего. В поэме «Сошествие в ад» читаем следующие строки: «– Вот что я знаю еще, – я промолвил. – Христос / Тоже поэт. – Временами! – Господь произнес» [Там же, с. 537]. В этом отношении Христа действительно можно назвать поэтом, ведь кто как не он несет свет высшей духовности людям?
Образ Христа в поэзии Юрия Кузнецова сложен и многогранен. Исследуя тайну единства Божественного и земного в Спасителе, Кузнецов обосновывает в поэтическом творчестве собственную картину мира, где истинная духовность любого человека заключается не в отходе от земного, а в его приятии и отображении через призму веры. Можно сделать вывод, что в художественном методе Ю. П. Кузнецова явно присутствуют «черты духовного реализма», если «понимать под духовным реализмом облечение христианских идеалов в художественную форму» [6, с. 76]. Глубокий смысловой, духовно-нравственный подтекст в его произведениях создается благодаря тому, что «главные ценности из мира внешнего, социального перемещаются во внутренний мир человека. Эти ценности не всегда доступны рациональному сознанию» [Там же, с. 78]. Поэтому Ю. Кузнецов и использует такие художественные образы, которые обращены непосредственно к человеческому и религиозному чув- ству читателя. Образная система поэзии Кузнецова во многом строится на основе библейской символики, ключевую роль в которой играет образ Христа.
Об авторе:
Список литературы Образ Христа в поэзии Юрия Кузнецова
- Казначеев С.М. Оптика Юрия Кузнецова // Современные русские поэты. М.: Ин-т бизнеса и политики, 2006. С. 207-228.
- Киреева Т.М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" // Мовш i концептуальш картини свпу. 2015. Вип. 51. С. 197-202.
- Кузнецов Ю. Золотая гора. М.: Сов. Россия, 1989. 320 с.
- Кузнецов Ю. Стихотворения и поэмы: в 5 т. Т. 5. М.: Литературная Россия, 2013. 720 с.
- Николаева С. Ю. Христианский провиденциализм в поэзии Юрия Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. № 10. С. 58-69.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Редькин В. А. Инфернальный мир в творчестве Ю.П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С.73-78.
- Редькин В. А. Роль "Слова о Законе и Благодати" Илариона в поэме-цикле Ю.П. Кузнецова "Путь Христа" //Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 81-88.
- Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1935. 1562 с.
- Шевченко О.В. Творческий путь Юрия Кузнецова: автореф. дне.. канд. филол. н.: 10.01.01 /О.В. Шевченко; Литературный ин-т им. А.М. Горького. М, 2010. 17 с.