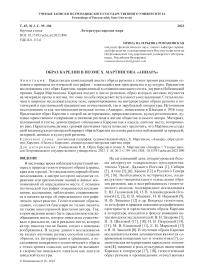Образ Карелии в поэме Х. Мартинсона «Аниара»
Автор: Романовская Ирина Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературы народов мира
Статья в выпуске: 3 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Представлен комплексный анализ образа региона с точки зрения реализации основного принципа поэтической географии взаимодействия пространства и культуры. Предметом исследования стал образ Карелии, закрепленный в сознании шведского поэта, лауреата Нобелевской премии Харри Мартинсона. Карелия входит в число регионов, образ которых активно изучается на материале прозы и поэзии, что само по себе определяет актуальность исследования. Статья включена в широкое исследовательское поле, ориентированное на интерпретацию образа региона в поэтической и прозаической традиции как отечественной, так и зарубежной литературы. Источником исследования стала постапокалиптическая поэма «Аниара», написанная в Швеции в 1956 году. Представлен образ Карелии с опорой на историческое, природоведческое, культурологическое, духовно-нравственное содержание и значение региона в жизни общества и самого автора. Материал, изложенный в статье, демонстрирует отношение к Карелии как к идеалу, святому месту, потерянному раю. Переплетение разных уровней прочтения текста позволяет заключить, что Мартинсон создал свой индивидуально-авторский вариант образа Карелии на основе реальных наблюдений за природой, историей, жизнью и культурой региона.
Поэтическая география, художественный образ, х. мартинсон, «аниара», образ региона, карелия, «песнь о карелии», индивидуально-авторская картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147240130
IDR: 147240130 | УДК: 821.113.6 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.890
Текст научной статьи Образ Карелии в поэме Х. Мартинсона «Аниара»
В настоящее время наблюдается растущий интерес к природе геопоэтического образа (страны, края или города). Это весьма популярный объект исследования, в центре которого находится отражение или преломление знаний и живых воспоминаний об определенном месте. С позиции поэтической географии описываются воспоминания, ассоциации, наблюдения, сохранившиеся в памяти автора об определенном географическом пространстве. Геопоэтические образы, однако, создаются благодаря не только памяти, но также многогранной фантазии автора. Так, в произведении может быть представлено как воображаемое место, которое никогда не существовало в реальности, так и реальное место, которое автор, никогда там не бывая, создал с помощью воображения. В задачу данного исследования не входит изучение разных способов создания образов, их интерпретация и сравнение, а исследование конкретного геопоэтического образа с точки зрения смыслов, которые он вызывает в творчестве шведского писателя как деятеля шведской культуры.
На сегодняшний день литературоведов больше интересуют «сакральные» пространства: топосы Урала1, Дальнего Востока [1], Сибири [5], Алтая [5], [6], Крыма [12] и Русского Севера [9], [16]. Необходимость исторического, индивидуально-эмоционального осмысления образов регионов, как и востребованность геопоэти-ческого подхода, подтверждают исследования Е. Ш. Галимовой [4], О. Н. Александровой-Осокиной [1], [2], В. В. Абашева2, И. Н. Ивановой [9], Н. Ф. Лищенко [12] и др. Вопросы геопоэтики, то есть форм и приемов освоения географических пространств и представления образа Карелии в литературе, находятся в фокусе внимания петрозаводских исследователей: В. Н. Захарова [7], Н. Л. Шиловой [17], [18], Н. В. Патроевой [14], [15], М. В. Казаковой [11], Е. И. Марковой [13] и И. В. Зыковой [8]. В изучении образа Карелии исследовательскими доминантами являются современные концепции гео- и этнопоэтики [7], семантическая интерпретация карельских топонимов [8], значение и роль культурных памятников Карелии в литературе [17], [18], геопоэтический образ региона в произведениях отечественных авторов [14], [15], [17], в карелоязычной и финской литературе [11], в краеведческих учебниках [10].
В данной статье мы рассмотрим геопоэтиче-ский образ Карелии, созданный в произведении шведской литературы. Такого рода анализ проводится впервые, что объясняется редким обращением шведских исследователей к образу карельской земли. Образ, представленный в поэме Х. Мартинсона, дает понимание не только того, как сам автор относился к Карелии, но также того, какие смыслы были важны в шведской рецепции образа региона.
***
В 1956 году в Швеции вышла в свет антиуто-пическая поэма «Аниара» («Aniara: en revy om människan i tid och rum»)3 лауреата Нобелевской премии Харри Мартинсона, в которой автор разместил «Песнь о Карелии» («Sång om Karelen»). Она располагается в заключительной части поэмы под номером 72. В отличие от многих других фрагментов «Аниары» она имеет название, что подчеркивает завершенность фрагмента и значение образа для понимания сюжета и подтекста произведения.
Образ Карелии многослоен, он создается с опорой на исторический, идейно-эмоциональный, духовный, природоведческий и культурологический смысл. Цель данной статьи заключается в изучении поэтического воплощения образа в поэме, в частности его различных смысловых составляющих.
Историческое содержание раскрывается через связь образа Карелии как с мировой историей, так и биографией Мартинсона. В 1934 году в Москве проходил Всесоюзный съезд писателей, на который Мартинсон прибыл в качестве иностранного гостя вместе с супругой писательницей Муа Мартинсон4. В отношении съезда литераторов Харри и Муа разойдутся во взглядах: Харри резко выскажется о советских писателях и насаждаемом в искусстве соцреализме5, Муа же займет противоположную, просоветскую, позицию. Отношение четы Мартинсон к происходящему в СССР может стать предметом отдельного исследования, наше же внимание обращено к другому факту: в одном из писем 1935 года Мартинсон прокомментирует свою поездку в СССР и упомянет о поездке в Карелию:
«Находясь в состоянии воодушевления, мы посетили Россию, загадочную страну. На какое-то время она нас поразила, но на обратном пути, проезжая Карелию, мы чуть не поубивали друг друга (перевод наш. – И. Р. )» [19: 88].
Вероятнее всего, маршрут Харри и Муа проходил по северной стороне Ладожского озера.
Этот путь Мартинсон позже, в 1948 году, воспроизведет в романе «Дорога в царство колоколов» («Vägen till klockrike»). В главе «Путешественник» он перечислит поселки Северного Приладожья: Корписелькя, Соанлахти, Суйстамо, Импилахти6.
При том что Мартинсон как минимум единожды бывал в Советской Карелии, у нас не вызывает сомнений, что именно Финская Карелия оставила глубокий след в его душе. Накаленные до предела отношения с супругой в конце 1930-х годов7 совпали с началом советско-финской («зимней») войны (1939–1940), на которую Мартинсон отправился в составе Шведского добровольческого корпуса. Он считал своим долгом выступить против войны, оккупации финской территории и распространения политического режима СССР в Европе. Финляндия фактически проиграла войну8 и, как результат, была вынуждена уступить Карелию. По данным Й. Стенстрёма, минимум 400 000 человек были эвакуированы из Карелии во время военных действий [20: 187]. Гражданское население мечтало вернуться в родные города, деревни и села по окончании войны, однако этим мечтам не суждено было сбыться.
Военные и политические события конца 1930-х – начала 1940-х годов потрясли Мартинсона настолько сильно, что он решил описать жизнь в Карелии до начала разрушительной войны в поэме «Аниара». Очевидно, замысел произведения автор вынашивал много лет, так как поэма вышла в свет только в 1956 году. Мартинсон выразил национальные, исторические, культурные ценности близкого шведам народа. Однако писал он поэму не от лица финского народа, а от лица всего человечества, потерявшего родную землю в результате ядерной войны.
Идейно-эмоциональное содержание выражается через описание Карелии как идиллического места. В образе Карелии Мартинсон создает упрощенную модель вселенной, где человек проживает долгую счастливую жизнь, находится в гармонии с самим собой и окружающей его природой. Автор воздействует на эстетические чувства читателя, чтобы напомнить, как раньше выглядел полный умиротворения, «духовный» мир.
Идиллическое восприятие образа Карелии подготавливается 71 песнью поэмы «Космический матрос», в конце которой автор пишет:
«Меж бесов поживешь – и доброта покажется диковинной страной, где ценят плод за то, что он есть плод, где счастье простоты поет кукушкой, звенит в долине сердца» (Мартинсон: 135).
Идейно-эмоциональный подтекст переплетается с природоведческим и культурологическим смыслами. Природоведческое содержание позволяет прочувствовать связь с окружающим миром, увидеть эстетическую красоту и неповторимость карельской земли, сформировать ценностное отношение к региону. Карелия традиционно изображается краем с нордической природой: дикорастущими соснами и елями, густыми зарослями кустарников, множеством малых и крупных водоемов – рек, озер, болот. Такое видение подтверждают экспериментальные данные, полученные И. В. Зыковой в 2022 году. Ядро семантического поля топонима Карелия И. В. Зыкова определяет так: «красивая республика России, где много лесов, озер и богатая природа. Там растет карельская береза» [8: 73]. Представление Мартинсона о природе Карелии весьма необычно: в оригинале поэмы Карелия – это край не хвойных, а лиственных деревьев, преимущественно лип. В описании региона Мартинсон использует словосочетания: «det susande Karelen» (букв. ‘шелестящая / шуршащая Карелия’), «lindornas Karelen» (букв. ‘липовая Ка-релия’)9. В переводе «Аниары», выполненном И. Бочкаревой в 1984 году, Карелия описывается как место прозрачных вод и светлых лужаек. Несмотря на небольшой объем песни, всего три страницы, лексема лужайка используется в переводе трижды; встречается она также и в оригинальном тексте («<…> vilkas lagar nu är döda / och vars ängar tiden brände», где ängar – луга / лужайки) (Martinson: 166). Обращение к образу лужайки типично для всего творчества Мартинсона. К примеру, в романе «Дорога в царство колоколов» есть такие описания: «…сараюшки которой серели меж высоких елей на дальней стороне залитой солнцем лужайки (курсив наш. – И. Р. )»10. Лужайки играют важную роль в конструировании светлого образа региона – они притягивают свет. В представлении автора Карелия – «всех светлее среди светлых» (Мартинсон: 136). Для реализации данного образа автор многократно обращается к лексемам блеск , блестит , свет , светлый ; в оригинале поэмы наблюдается варьирование семантических значений слова блеск : en glimt – луч, проблеск; en skymt – проблеск; ett vattenglim – блеск воды; att ljusna – светлеть / просветлеть, светать; ljus – светлый.
«Блеск Карелии, наверно, всех светлее среди светлых, блеску летних вод подобен, светлых вод среди деревьев, светлым вечером июня <…>» (Мартинсон: 136).
«Skönast ibland sköna glimtar syns dock skymten av Karelen, Som ett vattenglim bland träden, som ett ljusnat sommarvatten I den juniljusa tiden <…>» (Martinsson: 165).
Вся поэма строится на контрасте света и тьмы. Еще Ю. Вреде указывал на то, что воспоминания о Карелии, пребывании лирического героя в счастливом прошлом контрастируют со странствием «Аниары» в холодной вселенной [30]. Свет и тьма разграничивают два пространства в поэме: прошлое и настоящее. Темным, холодным представляется все космическое пространство, окружающее голдондер11, светлым же – прежнее человеческое существование на Земле, в частности в Карелии.
Контраст светлого – темного, а также прошлого – настоящего подчеркнут композицией песни. В первой части лирический герой говорит о Карелии как о месте, в котором провел самые счастливые годы своей жизни:
«Сам сидел я молча, думал о Карелии прекрасной, где когда-то прежде жил я, где провел я время жизни, Тридцать зим провел с весною, двадцать девять лет провел я» (Мартинсон: 135).
Во второй – сетует на необратимый ход времени, ностальгически спрашивает себя, где же теперь находится все то, что было раньше. В оригинале поэмы герой задается вопросами: «Var är min moder? Var är min flicka?» («Где моя мама? Где моя девушка?») и сам же на них отвечает: «I en bättre värld än denna» («В лучшем мире») (Martinsson: 166). Мартинсон пытается запечатлеть облик Карелии как чистого места, еще не тронутого агонией войны и разрушений.
Употребление топонима Карелия в поэме Мартинсона связано не только с природоведческой, географической семантикой, но и культурной.
В своих воспоминаниях лирический герой воспроизводит образ Карелии как «живой»: здесь летние воды блестят, из трубы избушки идет дым, счастливая кукушка, «флейта леса», поет волшебную песнь (Мартинсон: 136). Поэтическая формула «кукушка велит красивой Айно из воды июньской выйти» свидетельствует о связи поэмы с карело-финским эпосом «Калевала»12. Мартинсон отлично знал содержание напевов, даже использовал некоторые из них в своем творчестве. Связь с фольклорной традицией хорошо видна в оригинале песни, где Мартинсон не только использует язык рун, но и пишет: «Lindan ser jag, skogen hör jag / djupt i runornas Karelen» (букв. «Липу вижу я, лес я слышу / глубоко в рунической Карелии») (Martinson: 167). Создавая образ Карелии, Мартинсон отталкивался от фольклорной традиции, для автора Карелия – это не только топос, но и эпос.
Айно – одна из героинь «Калевалы» – находится в пограничной зоне между жизнью и смертью. В «Аниаре» Мартинсон дает ей возможность вернуться из загробного мира в мир реальный. Сюжет «обмирания» он использует для того, чтобы продемонстрировать Айно другой, неизвестный мир и наглядно показать, что ждет ее по ту сторону жизни. Здесь важен образ кукушки, который автор использует для познания жизни через смерть. Как известно, кукушка находится на границе непримиримых сторон – жизни и смерти, она выполняет роль медиатора между своим и чужим мирами («Голос кукушки, – пишет Т. А. Голикова, – способен проникать сквозь границу, отделяющую мир мертвых от мира живых…» [6: 159]). У Мартинсона кукушка наделена способностью оживлять людей.
«Уж велит красивой Айно из воды июньской выйти и пойти на дым избушки, на счастливый зов кукушки по Карелии лесистой» (Мартинсон: 136).
Аниарцы, как и Айно, находятся в пограничной зоне: безвозвратно порвав с прошлым, уничтожив родную Землю, герои пытаются обрести новый дом по подобию сохранившейся в их памяти идеальной Карелии – мира с уникальной природой, историей, традициями, ценностями, особым отношением к жизни. Поиск нового дома оборачивается бесконечным полетом в космическую бездну. По ходу развития сюжета читатель видит, что Карелия все больше превращается в недостижимый идеал . Она же остается для них настоящим домом, но только на уровне воспоминаний.
«Путешествие Аниары, – отмечает А. Ма-цевич, – можно воспринимать как своего рода “внутреннее”, духовное странствие»13. Карелия – это место, с которого начинается странствие души, но и место, которым оно должно закончиться. В представлении Мартинсона, в Карелии в частности и на Земле в целом нельзя допустить, чтобы человеческие грехи процветали. Любой грех должен быть осужден, за ним должно следовать наказание. Чтобы вернуться из цар- ства тьмы в царство света, люди должны преобразиться в своих мыслях, поступках и желаниях.
«Если мучиться в молчанье, если каяться безмолвно, может, под вечер однажды вспоминать я перестану, странствия души окончу, и очищен и свободен, на Звезду Царей вернувшись, полечу я, словно птица, по Карелии лужаек» (Мартинсон: 137).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В «Аниаре» Мартинсон создал такой образ Карелии, который замыкает в себе представления о пространстве, истории, культуре и жизни. Образ несет в себе историческое (связь географического пространства с зимней войной), природоведческое (образ Карелии как место светлых лужаек, прозрачных вод, липовых деревьев; отсутствие типичного северного колорита), фольклорное (связь Карелии с «Калевалой»), идейно-эмоциональное (Карелия как идеал счастливой, идиллической, утопической жизни), духовное (Карелия как место душевного покоя) содержание. Все эти смысловые составляющие объединены мотивом утраты: утраты земли с ее уникальной природой, счастливой жизни, душевного покоя, дома и т. д. Мартинсон представляет Карелию то реально существующим краем в настоящем, то идиллическим воспоминанием из прошлого, то утопией будущего. В «Песни о Карелии» ярко ощущается эмоциональный посыл автора: Мартинсон сожалеет о том, что люди в силу своей бездуховности могут лишиться единственно важного для них пространства – Земли. С помощью данной поэмы и «Песни о Карелии» в частности он предупреждает человечество о необходимости духовного и нравственного прозрения.
Список литературы Образ Карелии в поэме Х. Мартинсона «Аниара»
- Александрова- Осокина О. Н. Поэтическая топография Приамурья в поэзии Петра Комарова // Вестник Московского государственного областного университета. 2019. № 4. С. 90-98.
- Александрова - Осокина О. Н. Вопросы геопоэтики в современном литературоведении // Научный диалог. 2020. № 5. С. 216-241.
- Анисимов К. В. У истоков сибирской темы в русской литературе XIX века: журнал Г. И. Спасского // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2004. № 3 (40). С. 65-72.
- Галимова Е. Ш. Поэзия пространства: образы моря, реки, леса, болота, тундры и мотив пути в Северном тексте русской литературы. Архангельск, 2013. 128 с.
- Геопоэтика Сибири и Алтая в отечественной литературе XIX-XX веков: Сб. науч. ст. Барнаул, 2017. 131 с.
- Голикова Т. А. Алтайцы: словарь этнолингвокультуры. М.; Берлин, 2015. 346 с.
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18, № 3. С. 7-19.
- Зыкова И. В. Принцип поля при описании значения топонимов (на примере топонима Карелия) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 1. С. 70-75.
- Иванова И. Н., Сазонова А. С. Геопоэтика «новой северной прозы» в современной отечественной литературе // Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 2. С. 70-73.
- Илюха О. П. «Начало всех начал»: образ Карелии в учебниках по краеведению для младших школьников (конец XIX - начало XXI вв.) // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2021. Вып. 6. С. 285-297.
- Казакова М. В. Поэтическая география в билингвальной лирике А. И. Мишина (Олега Мишина -Армаса Хийри) 1990-х годов // Ежегодник финно-угорских исследований. 2018. Т. 12, № 4. С. 44-53.
- Лищенко Н. Ф. Крымский текст русской литературы: топосы, мотивы, семиосфера // Вопросы русской литературы. 2016. № 29 (86). С. 206-215.
- Маркова Е. И. Карельский текст как предмет изучения // Н. П. Анциферов. Филология прошлого и будущего: Материалы Междунар. науч. конф. М.: ИМЛИ РАН, 2012. C. 385-390.
- Патроева Н. В. Карельские мотивы и фольклорные элементы в лирике Р. Рождественского // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2015. № 5 (150). С. 87-91.
- Патроева Н. В. Образы Финляндии и Карелии в русской романтической лирике: формирование поэтической традиции и синтактика тропеических контекстов // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 5 (182). С. 37-42.
- Северный текст как логосная форма бытия Русского Севера. Архангельск, 2017. Т. I. 410 с.
- Шилова Н. Л. Кижский текст в русской литературе // Филология прошлого и будущего: по материалам Международной науч. конф. М., 2012. С. 391-395.
- Шилова Н. Л. Остров Кижи и русская литература. Петрозаводск, 2018. Электронное издание.
- Erf urth S. Harry Martinsons 30-tal. Stockholm: Bonniers, 1989. 256 p.
- Stenström J. Aniara. Frän versepos till opera. Malmö: Corona AB, 1994. 457 p.
- Wrede J. Sängen om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1965. 384 s.