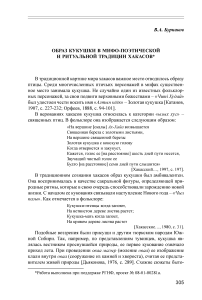Образ кукушки в мифопоэтической и ритуальной традиции хакасов
Автор: Бурнаков В.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521456
IDR: 14521456
Текст статьи Образ кукушки в мифопоэтической и ритуальной традиции хакасов
Будто [на расстояние] семи дней пути слышится»
[Хакасский…, 1997, с. 197].
В традиционном сознании хакасов образ кукушки был амбивалентен. Она воспринималась в качестве сакральной фигуры, определяющей природные ритмы, которые в свою очередь способствовали зарождению новой жизни. С началом ее кукования связывали наступление Нового года – « Чыл пазы ». Как отмечается в фольклоре:
Кукушки-птенцы когда запоют,
На ветвистом дереве листва растет;
Кукушка-мать когда запоет,
На кривом дереве листва растет
[Хакасские…, 1980, с. 31].
Подобные воззрения были присущи и другим тюркским народам Южной Сибири. Так, например, по представлениям тувинцев, кукушка являлась вестником проснувшейся природы, ее первое кукование означало приход лета. При проведении оваа магыр (моление оваа) ее изображение клали внутри оваа (сооружение из камней и хвороста), считая ее представителем живой природы [Дьяконова, 1976, с. 289]. Схожие сюжеты быто- вали и у телеутов. Весной, при получении нового бубна, шаман в своей молитве обращался к духам со следующими словами:
В новолуние,
При сиянии солнечных лучей,
Когда голова года повертывается ,
Когда змея сбрасывает кожу,
Когда плодовые деревья покрываются листьями,
Когда закукует кукушка,
Когда расщепится земля и показывается зелень, Когда расщепляются деревья и вырастают листья
[Дыренкова, 1949, с. 172. Выделено мной – Б.В.].
Образ кукушки – вестницы новой поры, олицетворяющий пробужденную природу и наступление тепла, находит свое отражение в названиях весенних месяцев. В хакасском языке одним из названий марта был – « Арган кёёк айы » (букв. месяц ненастоящей кукушки ). Апрель же назывался « Сын кёёк айы » (букв. месяц истинной кукушки ) [Бутанаев, 1999, c. 51]. Верили, что благодаря волшебству кукушки хвойные деревья круглый год стоят зелеными [Попов, 1885, с. 36].
Другим сакральным «свойством» кукушки была ее связь с потусторонним миром. В архаических воззрениях она нередко выступает в ка-че стве вестника смерти [Катанов, 1897, с. 51]. Подобные представления сохраняются и в наши дни. Со слов информаторов: «Если кукушка залетает в деревню, располагается близко к дому и кукует, то это обязательно к несчастью, смерти» (ПМА-2008, Бурнакова Л.А., с. Отты). В мифопоэтической традиции хакасов кукушка не только извещает о смерти, но и отмечает место будущего захоронения. Так, например, эта птица указывает эпической героине Ай-Хуучин местонахождение ее родовой усыпальницы.
На [хребет] Ханым-сын с высоким гребнем Поднимайтесь и вслушайтесь, Там, где куковать станет Чистоголосая птица кукушка,
В том месте, где будет куковать птица кукушка, Тело мое схороните
[Хакасский…, 1997, с. 189].
В анимистических представлениях хакасов кукушка могла олицетворять душу человека. Так, душа вышеупомянутой героини Ай-хуучин изображалась в виде двуглавой кукушки ( iкi пастыг кёёк хус ). Магический голос этой птицы способствовал тому, что «в небо вздымается горная белосизая вершина ( агыл-кёгiл тигей ), открывая белый каменный гроб. После захоронения горная бело-сизая вершина от кукования кукушки вновь опускается с неба и, закрыв собою гроб, уходит в землю. На месте белосизой вершины вырастают белые и синие цветы» [Хакасский…, 1997, с. 467]. Вполне возможно, что кукушка имеет отношение и к тотемистическим представлениям.
Представление о душе в образе птицы семантически связано со словом «улетел» в значении «умер» и отражает целый комплекс религиозных представлений. Согласно древнетюркским воззрениям, представители царской династии после своей смерти «отправлялись» на небо. Как пишет Л.П. Потапов: «Слово “улетел” (или “отлетел”) подразумевало отлет на небо, где умершему предстояло продолжить свое существование» [Потапов, 1991, с. 151]. Стоит отметить, что анималистическое изображение души человека (в образе птицы) в верованиях хакасов является весьма распространенным. Особенно ярко это проявляется в героическом сказании
|
«Алтын Арыг»: |
Приплясывает, распевая, В руках – кукушка золотая. Хохочет, выдирая перья: Ох, и потешусь, мол, теперь я! А пух-то, пух над высотой Так и кружится, золотой. Ногой она девицу пнула, Кукушку ей на грудь швырнула, И у Алтын Арыг все тело В одно мгновенье онемело. «Ну, - молвила Пора Нинжи , - Где кости мальчика, скажи?» Чуть слышно молвила Алтын: «Смолчу, скажу ли – толк один. Мне все равно не жить на свете, И ты за смерть мою в ответе». Нинжи схватила птицу в злобе, Да как ей скрутит шеи обе! Перекрутились в тот же миг Все жилы у Алтын Арыг. Рванулся конь, подняться силясь, – Все вены вмиг перекрутились. Ох, это ржанье, этот крик! Терпи, скакун, терпи, Арыг ! А ты, Нинжи , пытай девицу: Души истерзанную птицу! [ Алтын-Арыг , 1987, с. 105]. |
Посредством магических манипуляций с кукушкой причиняются страдания богатырше Алтын Арыг . Данный сюжет выявляет прямую магическую связь кукушки с жизненными силами эпического героя. В другом же героическом сказании - « Алтын Чюс » идея взаимосвязи кукушки -олицетворения жизненной субстанции и самого человека получает новое развитие. Главный герой с помощью кукушки оживляет растерзанного младенца.
Принялся Алтын Чюс за самого младенца. Собрал он все младенческие косточки, Набралось их всего-то горсточка,
Потом твердя заклинания разные, Достал кукушку он из-за пазухи, Не ту кукушку, что кукует весной, Но с лошадиную голову величиной. Из хвоста коня он три волоса выдернул, У себя из головы он три волоса выдернул, И кукушку, которую из-за пазухи достал, Три раза волосьями обмотал, Положил он кукушку на ребячьей скелет, Пролежавший в земле уже много лет. Травами целебными он скелет обкурил, Заклинанья необходимые проговорил.
Кровь, что когда-то по земле расплеснулась, Назад в младенца до капли вернулась. Душа, которая когда-то вверх улетела, В младенческое вернулось тело.
Младенец ожил, дышать он стал, Потом потянулся и на ноги встал
[ Алтын Чюс , 1987, с. 176. Выделено мной – Б.В.]
Стоит добавить, что в мифологических представлениях хакасов кукушка обладала волшебным голосом, который мог оживить человека [Хакасский…, 1997, с. 441]. Верили, что кукование этой птицы порождает снежные массы [Кастрен, 1999, с. 215]. «Если кукушка после кукования очень сильно захохочет, то будет ненастье» [Катанов, 1897, с. 59, 75]. Очевидно, что кукушка соотносилась с Верхним миром.
Важное место отводилось кукушке в шаманских практиках, в том числе при переходах шамана в Верхний мир. Считалось, что хакасские шаманы могли «подняться» в Верхний мир в том случае, если среди их духов-помощников была эта птица. «Кукушка якобы вторила шаману во время камлания, когда он описывал горы и воды, которые преодолевал в верхнем мире. Этим, по их понятиям, она “усиливала” его волшебный дар. Если на бубне не была нарисована кукушка, это означало, что владелец не может совершать моление, посвященное божествам верхнего мира» [Алексеев, 1984, с. 217-218].
Было распространенным явлением, когда в процессе камлания шаман своими телодвижениями, мимикой и голосом имитировал кукушку [Бу-танаев, 2006, с. 144]. В связи с этим, образ кукушки широко использовался в культовой атрибутике хакасских шаманов. На шаманских костюмах в области плеч прикреплялись изображения кукушки « кёёк улгузi », вырезанные из дерева или листовой меди. Кроме того, отдельными шаманами использовался головной убор, « хус пёрiк » – птичья шапка. Для его изготовления нередко использовали очищенное от внутренностей и высушенное в виде шапки чучело кукушки ( кёёк пёрiк – букв . шапка из кукушки ). Внутренность обшивали материей или войлочной подкладкой. Голова и крылья птицы оставались нетронутыми [Бутанаев, 2006, с. 78, 85].
Подведя итоги, можно констатировать, что в мифо-ритуальной системе хакасов образ кукушки занимает важное место. Он имел полисемантичный характер. Кукушка мыслилась одновременно в качестве подательницы жизни и вестника смерти. Столь же очевидна ее значительная роль в магии и шаманизме. Верили, что она имеет непосредственное отношение к жизненным силам и душе человека.