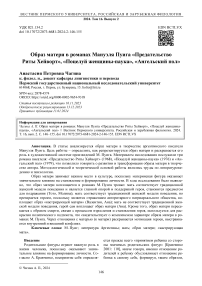Образ матери в романах Мануэля Пуига «Предательство Риты Хейворт», «Поцелуй женщины-паука», «Ангельский пол»
Автор: Чагина А.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется образ матери в творчестве аргентинского писателя Мануэля Пуига. Цель работы - определить, как репрезентируется образ матери и раскрывается его роль в художественной системе произведений М. Пуига. Материалом исследования послужили три романа писателя: «Предательство Риты Хейворт» (1968), «Поцелуй женщины-паука» (1976) и «Ангельский пол» (1979), что позволило говорить о развитии и трансформации образа матери в творчестве автора. Методологической и теоретической основой работы являлись труды по литературоведению и психологии. Образ матери занимает важное место в культуре, поскольку материнская фигура оказывает значительное влияние на становление и формирование личности. В ходе исследования было выявлено, что образ матери воплощается в романах М. Пуига трояко: мать соответствует традиционной женской модели поведения и является главной опорой и поддержкой героя, становится предметом для подражания (Тото, Молина); мать соответствует традиционной женской модели поведения, но презирается героем, поскольку является отражением авторитарного патриархального общества, воплощает образ «кастрирующей матери» (Валентин, Ана); мать не соответствует традиционной женской модели поведения, герой сам воплощает образ матери (Ана). Кроме того, образ матери пересекается с образом смерти, связан с процессом взросления и становления героя, используется для раскрытия политического подтекста, что свидетельствует о комплексном характере образа матери в романах М. Пуига. Через отношения с матерью (к матери) раскрывается мотивация героев, выстраивается внутренний и внешний конфликт.
М. пуиг, литература аргентины, мать, образ матери, «кастрирующая мать»
Короткий адрес: https://sciup.org/147244092
IDR: 147244092 | УДК: 821.134.2 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-2-146-155
Текст научной статьи Образ матери в романах Мануэля Пуига «Предательство Риты Хейворт», «Поцелуй женщины-паука», «Ангельский пол»
Родительские фигуры играют важную роль в жизни человека, поскольку оказывают значительное влияние на формирование личности. Согласно А. Кравченко, восприятие себя определя- ется прежде всего «принятием ребенка со стороны значимых родительских фигур» [Кравченко 2001: 110], иначе говоря, именно отношение родителей к ребенку обусловливает отношение ребенка к самому себе, формируя, таким образом,
личность и психику индивида. Важно, что негативно сказывается на формировании личности не только отсутствие понимания и любви со стороны родительских фигур, но и отсутствие «возможности любить и уважать своих родителей», поскольку в таком случае родители сами искажают архетипический образ Родителя [Тытарь 2005: 197]. При этом материнская фигура представляется более значимой, поскольку именно мать занимает центральное место на первых этапах жизни ребенка. Неудивительно, что такой важный для человека образ находит отражение в культуре.
Так, фигура матери присутствует в мифологии и сказках разных народов мира, а богиня-мать играет важную роль в подавляющем большинстве политеистических (шумерская Великая Богиня, древнегреческая Гея, японская Аматэ-расу и др.) и монотеистических (Дева Мария в христианстве, мать Будды, которой приснился белый слон перед рождением сына) религий. С развитием общества образ матери продолжает активно осмысляться в искусстве, особенно в литературе. Заметим, что образ матери амбивалентен: он одновременно связан с космосом и хаосом, с творческим и природным началами, с жизнью и смертью [Мелетинский 1994: 46]. Вместе с тем «традиционным» для мировой литературы является собирательный образ матери как защитницы семейного очага [Сайфуллина 2017: 206], который, тем не менее, переосмысляется в XX–XXI вв. Интерес к образу матери заметно возрастает среди латиноамериканских писателей второй половины XX в., что связано с усилившимся процессом самоидентификации нации [Башкова 2017].
Значимая роль отведена образу матери и в творчестве Мануэля Пуига. Заметим, что романы писателя во многом автобиографичны, а его отношения с матерью были достаточно близкими и доверительными: она была его «главным сообщником» [García 2013: 241]. Именно мать привила ему любовь к кинематографу, оказавшему значительное влияние на художественное видение М. Пуига [Чагина 2023]. В отличие от отца, строго и авторитарного, мать всегда была для писателя опорой и поддержкой. Как отмечал сам М. Пуиг, любовь, которую не мог дать ему отец – человек мягкий в душе, но старавшийся соответствовать закрепленному в обществе того времени образу безэмоционального мужчины, – ему давала мать [Essoufi, Puig 1995: 175]. Сильная связь писателя с матерью подтверждается и тем фактом, что многие его письма были адресованы именно ей, даже в тех случаях, когда письмо начиналось со слов «Дорогая семья», М. Пуиг в тексте обращался преимущественно к матери, коммуникация с отцом и братом строилась через нее. Если к матери писатель обращался напрямую, то к брату и отцу – в третьем лице [Lozano 2013: 94–95]. Представляется, что отношения с собственной матерью во многом определили образ матери в творчестве М. Пуига. Как отмечал С. Айра, М. Пуиг воспевал материнство, он не только говорил с матерью, но имитировал ее речь [Aira 1991: 27]. В настоящей статье мы обратимся к трем романам писателя – «Предательство Риты Хейвойрт» (“La traición de Rita Hayworth”, 1968), «Поцелуй женщины-паука» (“El beso de la mujer araña”, 1976) и «Ангельский пол» (“Pubis angelical”, 1979), – чтобы проследить, каким предстает образ матери в разных произведениях и как он трансформируется от романа к роману, а также рассмотреть, как с ним связаны мироощущение героев и их характеры.
«Предательство Риты Хейворт»
Первый роман М. Пуига – «Предательство Риты Хейворт» – имеет сильное автобиографическое начало. Писатель признавался, что его детские воспоминания рвались наружу [King 1989: 286–287], их было так много, что сценарий превратился в роман. Герои «Предательства Риты Хейворт» вдохновлены семьей и окружением М. Пуига. Среди них достаточно легко угадывается сам писатель в персонаже Тото, а образ Ми-ты, матери Тото, очевидно был вдохновлен матерью М. Пуига. Как отмечала Б. Сарло, писатель воплотил образ своей матери в образе Миты, а потом написал роман, который бы понравился ей [Sarlo 2007: 465]. В произведении поднимаются проблемы, связанные с традиционным патриархальным укладом жизни в маленьком провинциальном городе. Постепенно через истории многочисленных персонажей, окружающих Тото по мере его взросления, перед читателем раскрываются типичный быт аргентинской глубинки первой половины и середины XX в. и трудности, с которыми сталкиваются герои, скованные консервативными нормами.
В отличие от остальных героев, Тото, будучи чувствительным, воспитанным на голливудском кинематографе ребенком, не вписывается в общество и не готов мириться с его устоями. Это связано во многом с тем, что воспитанием мальчика преимущественно занимается мать, тогда как отец почти не уделяет ему внимания. Более того, друзей у Тото тоже нет, даже двоюродный брат, который живет в их доме, предпочитает проводить время с другими ребятами: «Эктор живет у нас дома, но не играет со мной»1 [Puig 1968: 24]. Мита становится центральной фигурой для Тото: мальчик проводит с ней много времени, они вместе ходят в кино, вырезают и раскра- шивают портреты актрис из газет, рисуют и воспроизводят сцены из фильмов, что также является отражением биографии самого М. Пуига (см. об этом: [Levine 2000]). Тото переживает, когда мама не может пойти с ним («мамочка! почему ты не пришла?» [Puig 1968: 32]) и радуется их совместным походам в кино («к счастью, в этот четверг мама сможет пойти в кино» [ibid.: 25]). Он сильно привязан к матери, видит в ней опору и во всем полагается на нее. Так, размышляя и фантазируя, Тото не только постоянно обращается к маме, но и, когда представляет себя в опасности, в первую очередь думает о матери и о том, как позовет ее на помощь: «мамочка, наверное, ждет меня в зале, сидя в кресле, тогда я закричу, чтобы она пришла меня спасти!» [ibid.: 29].
С другой стороны, Мита тоже сильно привязана к Тото. Когда он подрастает и приближается время отправить его на учебу в Буэнос-Айрес, Мита опасается, что он вернется совсем взрослым и не будет проводить с ней время, перестанет ходить с ней в кино, будет стыдиться матери: «Говорят, мальчики становятся мужчинами в школе, вдалеке от родителей <…> я не позволю забрать моего мальчика, чтобы мне вернули потом здоровяка, которой стыдится пойти в кино с родной матерью» [ibid.: 95]. Она не готова потерять связь с сыном, который является для нее главной поддержкой и разделяет ее интересы. Именно Тото, в отличие от племянника и мужа Миты, оплакивает вместе с ней новорожденного малыша, находящегося при смерти. И хотя Мита пытается оправдать слезы Тото тем, что он еще ребенок, очевидно, что Тото перенимает модель поведения матери и отличается от других мужских персонажей: «я плачу, потому что мы, женщины, слабые, а Тото плачет, потому что он еще ребенок. Не помню, плакал ли Эктор, когда умерла его мать, именно я сообщила ему об этом, он был слишком маленький, чтобы плакать, на год младше, чем сейчас Тото, но Тото плачет, потому что он понимает всё, как взрослый» [ibid: 98]. Иначе говоря, Тото плачет вовсе не потому, что он маленький, ведь Эктор в том же возрасте не плакал, когда умерла его мать, а потому, что он перенимает материнскую модель поведения – он «мягкий» по характеру, чувствительный. Так считает и отец Тото, обвиняя Миту в том, что мальчик не умеет сдерживать слезы [ibid: 98].
Заметим, что Тото ассоциирует образ своей матери с кинодивами. Он ставит ее в один ряд с прекрасными героинями голливудских фильмов и хочет, чтобы она тоже выглядела нарядно и красиво, что приводит к конфликтным ситуациям и непониманию со стороны мужских персо- нажей: «но если бы я была за столом, то я бы заступилась за Тото, ведь он лишь хотел, чтобы его мама была хорошо одета, как актриса» [ibid: 43]. Примечательно, что Мита, как и Рита Хейворт, совершает своеобразное предательство по отношению к Тото. Так, когда Рита Хейворт оказывается «злодейкой», Тото трудно принять, что красивая актриса может быть предательницей. Этот внутренний конфликт ребенка обостряется из-за того, что отцу большего всего понравилась именно героиня Риты. Желая получить одобрение отца, Тото тоже пытается полюбить ее, но так и не может простить ей предательство главного героя. Мита же в какой-то момент подчиняется давлению со стороны общества и мужа, которое усиливается, когда отличия Тото от других мальчишек становятся слишком очевидными: «Мита запретила Тото играть в магазин с украденными вещами Паки и рисовать актрис, потому что это не мужские занятия, и сказала, что, если она застукает его снова, то накажет и оставит без кино» [ibid: 74]. Мита не встает на сторону сына, а, напротив, поддерживает позицию отца и запрещает Тото его «не мужские» увлечения. Тем не менее строгость Миты лишь временная. Как было отмечено выше, она не готова терять связь с сыном и отказаться от своего единственного «единомышленника»: она продолжает ходить с Тото в кино, обсуждать фильмы и даже рисовать сцены из них, скрываясь от мужа («и нам придётся тайно делать новые рисунки?» [ibid: 103]).
Примечательно, что в романе именно образ матери неразрывно связан с образом смерти. Так, мать Эктора умирает, когда он еще совсем ребенок (8–9 лет). Лейтмотивом шестой главы, содержащей размышления Тете, становится серьезная болезнь и возможная кончина матери девочки. Тете постоянно вспоминает о маме и переживает о ее потенциальной смерти, а вместе с тем представляет и собственную смерть: «Мама тяжело больна и, если мама умрет, отправится на небо, а я буду молиться весь день, чтобы она меня услышала и увидела, какая я хорошая, а если я тоже заболею и умру, то отправлюсь на небо к маме» [ibid: 65], «но я умру прямо в коридоре, и все медсестры будут на меня смотреть, ведь никогда еще у них не умирала девочка 12 лет» [ibid: 68]. Желая спасти маму, Тете обращается к церкви и богу, надеясь, что молитвы помогут: «Я молюсь за мамочку, и, может быть, из-за меня ей становится лучше» [ibid: 65], «Если бы я молилась весь день, как Сестры из школы Линкольна, то маме бы становилось всё лучше» [ibid: 66]. Ребенку сложно осмыслить смерть, а потому тревожность Тете, с одной стороны, выливается в желание умереть и быть с мамой на небесах, с другой – не в силах на что-то повлиять она старается быть «хорошей девочкой» и молиться, чтобы бог спас ее маму: она готова слушаться отца, уступать другим в играх, отдать свои куклы, не просить больше апельсины и послушно ложиться спать. Однако ребенок не может всегда вести себя идеально, и Тете начинает корить себя за «плохое» поведение. Внутренний конфликт и смятение девочки усиливается из-за окружающих ее противоречий. Так, Мита не ходит в церковь и слишком балует Тото, но вместе с тем Мита «хорошая, добрая», она нравится Тете, хотя их взгляды на жизнь и идеалы отличаются.
Сама Мита тоже связана со смертью. Восьмая глава, повествование в которой ведется от лица Миты, сосредоточена на переживаниях женщины за своего новорожденного ребенка, оказавшегося на грани жизни и смерти. Ей не позволяют дать ему имя и увидеть малыша, чтобы она не успела к нему привязаться, если ребенок погибнет, и только со слов Тото и Берто она знает, как выглядит малыш [Puig 1968: 94]. Так, через Миту и ее переживания Тото впервые столь близко соприкасается со смертью. Ему трудно осознать трагедию, и он пытается по привычке найти утешение в кино, вспоминая похожую сцену в одном из фильмов: «если он умрет, то будет как в “Леди Великого человека”, там умирает новорожденный малыш у Барбары Станвик» [ibid: 94].
Такая тесная связь образа смерти и образа матери, как представляется, обусловлена процессом взросления и отрывом ребенка от матери. Так, Эктор, лишившись матери и отправившись на учебу в Буэнос-Айрес, возвращается «мужчиной»: «он уехал в марте совсем ребёнком, а вернулся в ноябре с волосами на ногах <…> и когда он появился в третий раз, его было не узнать – настоящий мужчина» [ibid: 95]. Именно отрыв от родителей, в особенности – от матери, становится толчком к взрослению Эктора, его превращению в мужчину. Страх потерять тяжело больную мать также толкает к размышлениям о жизни и мироустройстве Тете, которая, хотя и не способна повзрослеть в 12 лет, всё же начинает задаваться более взрослыми, даже философскими вопросами. Связь Тото с Митой, очевидно, значительно сильнее, а потому ее не так просто разорвать. Взросление Тото протекает иначе, поскольку его восприятие мира отлично от окружающих. Тем не менее некоторый «разрыв» с матерью можно усмотреть и у Тото. Так, если раньше он, как и Мита, назвал любимым фильмом «Великий Зигфелд» [ibid: 94], то позднее для сочинения о любимом фильме он выбирает другую кинокартину, в описании которой угадывается «Большой вальс» (“The Great Waltz”, 1938). Таким образом, мы видим, что Тото отде- ляется от матери в самостоятельную личность, которая больше не повторяет за Митой во всем, но по-прежнему во многом разделяет ее интересы и мировоззрение.
Очевидно, мать является ключевой фигурой в жизни Тото: именно ее влияние и тесная связь с сыном во многом сформировали его личность, столь разительно отличную от других мужских персонажей. Тото не вписывается в патриархальное общество, он не скрывает слезы, не стесняется своих «женских» увлечений и близости с матерью. Будучи оторванным от отца, Тото не впитывает типичные и традиционно свойственные мужчинам черты – мужественность, строгость, безэмоциональность, твердость, – а перенимает, скорее, поведенческую модель матери (см. об этом: [Vivancos Pérez 2006: 637]). Это неизбежно приводит к конфликту с обществом и внешним миром, а излишне «женственная» натура Тото вызывает насмешки и оскорбления даже со стороны близких людей. Так, и Эктор, и Тете называют его maricón – «гомик»: «а ты, гомик, постоянно воображаешь, что находишься в фильме», «воображаешь из себя что-то, а сам – мелкий гомик» [Puig 1968: 95, 160]. Заметим, что это ругательство употребляется в романе исключительно по отношению к Тото.
«Поцелуй женщины-паука»
Роман «Поцелуй женщины-паука» строится на взаимодействии двух противоположных героев – Молины и Валентина, которые постепенно приходят к взаимопониманию через бесконечный диалог. Валентин отражает мужское начало (маскулинность, активность, агрессию, доминирование), тогда как Молина воплощает женское начало (феминность, пассивность, заботу, подчинение). Конфликт героев с внешним миром, друг с другом и с самими собой вытекает из их отказа принимать часть себя, иначе говоря, пользуясь терминологией Г. К. Юнга, Молина отказывается принимать Анимус (мужское начало), а Валентин – Аниму (женское начало). Однако, согласно М. Пуигу, каждый человек, независимо от пола и гендера, обладает женской и мужской стороной, то есть в некотором смысле является и мужчиной и женщиной [Ramírez 2005: 41], а потому отказ от части себя неизбежно приводит к конфликту.
Противоположность героев проявляется и в их отношениях с матерью. Молина очень привязан к маме, он постоянно думает о ней, беспокоится, переживает о ее состоянии. Этим пользуется тюремное начальство, чтобы надавить на Молину, манипулировать им и заставить его работать на себя. Молина же готов на всё, чтобы выйти на свободу и позаботиться о больной ма- ме, как он сам признаётся ближе к концу романа: «И я больше всего на свете хотел выйти, чтобы позаботиться о маме» [Puig 2001: 176]. Отношения Валентина с матерью противоположны: будучи революционером, он не разделяет ее буржуазные взгляды и презирает ее за них.
Указанное отличие между героями очевидно уже в первых главах. Так, когда Молина рассказывает сюжет фильма о женщине-пантере и описывает дом главного героя, он упоминает, что квартира раньше принадлежала матери и была обставлена ей [ibid: 12, 14]. Валентин «зацепляется» за слова о матери и позднее вставляет ехидный комментарий, когда герой фильма вынужден спать на диване, уступая кровать жене в первую брачную ночь:
– Смотря на вещи его матери.
– Если будешь смеяться, то я остановлюсь [ibid: 14].
Игнорируя задетые чувства Молины, Валентин желает продолжить обсуждение. Он спрашивает, как Молина представляет себе мать главного героя, и тут же критикует созданный им образ: «Отлично. У неё есть слуги, она эксплуатирует людей, у которых нет другого выхода, кроме как прислуживать за жалкие гроши. И конечно, она была счастлива с мужем, который эксплуатировал уже её, заставлял её делать всё, что ему угодно, она была заперта дома, как рабыня <…> И её полностью устраивала эта система, она не протестовала и передала весь этот бред своему сыну» [ibid: 15]. Представляется, что описанный Молиной образ во многом совпадает с образом матери самого Валентина и других представителей «высшего общества», против которых он ведет революционную борьбу. Если для Молины образ красивой, утонченной женщины – это навязанный кинематографом образ идеальной кинодивы, к которому он стремился (как и М. Пуиг, мечтавший стать такой героиней [Ramírez 2005: 11]), то для Валентина подобный образ – это воплощение буржуазной идеологии, притеснения и подавления рабочего класса, иначе говоря, всего того, что Валентин ненавидит и пытается искоренить.
Здесь же появляется образ «кастрирующей матери», к которому Валентин еще будет обращаться. Так, спокойный и понимающий характер главного героя фильма он воспринимает как признак наличия у него именно такого типа матери («Мать его кастрировала, вот и всё» [Puig 2001: 15]), поскольку «кастрирующая мать» приводит к формированию «сверхкритичного супер-эго» и готовности мириться с унизительным положением [Калина 2001: 123], в котором оказался герой, согласившись спать на диване в первую брачную ночь. Валентин, играя роль своеобразного психо- аналитика, приводит в подтверждение своей теории то, что герой фильма продолжает жить в обстановке, созданной его матерью, словно навсегда хочет остаться ребенком, а его женитьба на фригидной (по мнению Валентина) женщине свидетельствует об акте «кастрации». Для Валентина, как полагает М. Андреа, идеальный образ женщины напрямую связан с отсутствием в ней «кастрирующей матери» [Andrea 2015: 66– 67], о чем упоминает и сам Валентин, разорвавший отношения с женщиной, потому что он стала для него такой «кастрирующей матерью»: «Если бы она не стала со мной такой… кастрирующей матерью…» [Puig 2001: 98].
Переломным моментом в отношениях героев и трансформации их взглядов становится отравление Валентина начальством тюрьмы. Мучаясь от боли, Валентин, пусть и неохотно, но соглашается принять помощь Молины. В этом эпизоде Валентин показывает свою слабость и ту часть своей натуры, которая скрывается за «воинствующим революционером», что позволяет Молине взглянуть на сокамерника с другой стороны. Для читателя же полнее раскрываются отношения Валентина с матерью через фильм, рассказанный Молиной. Главный герой вставной истории – отпрыск буржуазной семьи, придерживающийся революционных идей, для которого развод родителей оказался сильным потрясением. Это во многом перекликается с историей Валентина, на что указывает позднее Молина. Примечательно, что во время пересказа именно этого фильма Молина замечает, что Валентин никогда не говорил о своей матери [ibid: 84]. Сначала Валентин отрицает этот факт, но вскоре признается, что он не говорил о матери, потому что она никогда не разделяла его идеалы, поскольку сама была из обеспеченной семьи и принадлежала высшему обществу [ibid: 85]. Так, слушая Молину, Валентин переносит на персонажа фильма свой опыт и свои переживания, о чем свидетельствует эпизод, когда в бреду Валентин воспроизводит сюжет кинокартины, но уже с изменениями. При этом значительная роль в его фантазиях отведена именно образу матери: идеально одетой, элегантной, ухоженной, не проронившей и слезы после смерти бывшего мужа [там же: 88–89]. Для Валентина мать – предательница, бросившая семью и убившая отца, представительница тех, против кого он борется, а потому и концовка в его версии фильма отличается: он убивает мать и погибает сам, не справившись с внутренним конфликтом и противоречиями [ibid: 103].
Значительная роль отведена образу матери в авторских сносках, где перечисляются различные теории о природе гомосексуальности. Согласно ряду теорий, именно образ матери часто играет ключевую роль в формировании ориентации. Так, согласно З. Фрейду и А. Фрейд, гомосексуализм тесно связан с Эдиповым комплексом – инцестуозными желаниями в отношении матери. При этом некоторые признаки указанного комплекса можно наблюдать у обоих героев романа. В теории О. Феничела выбор пассивной роли матери вместо авторитарного деспотичного отца может привести к формированию гомосексуальной ориентации, что во многом отражается в герое Молины, который «берет на себя роль матери» [Andrea 2015: 78], заботясь о Валентине. Аналогичных взглядов придерживается А. Таубе, которая подчеркивает, что отказ от роли эксплуататора происходит осознанно, а отсутствие другой модели поведения не оставляет иного выбора, кроме как принять модель поведения матери. Интересно, что воплощением «эксплуататора» для Молины является отец, тогда как для Валентина – мать.
Молина в некоторой степени идеализирует образ матери. Так, даже оскорбляя мужчин и используя фразу «сукины дети», он тут же извиняется перед матерями, которые в этом не виноваты [Puig 2001: 43]. Молина объясняет свою безграничную любовь к матери тем, что только она принимала его таким, какой он есть, и поддерживала [ibid: 141]. Оказавшись на свободе, он продолжает заботиться о матери, что отражено в полицейских отчетах [ibid: 184–188]. Валентин же, напротив, винит мать во всех своих бедах, в том, что он стал тем, кем стал, из-за ее воспитания, что находит отражение в его размышлениях о первом фильме и о фильме про партизан. Тем не менее постепенно он начинает поддерживать Молину, принимает его привязанность к матери: «ведь ты хочешь выйти, чтобы позаботиться о матери. И всё. Ни о чем больше не думай. Потому что её здоровье важнее всего, так?» [ibid: 148]. Представляется, что Валентин, пусть и не до конца принял и простил свою мать, но пришел к пониманию, что не все матери соответствуют созданному им образу «кастрирующей матери», чему во многом способствовал Молина.
«Ангельский пол»
Центром романа «Ангельский пол» является главная героиня Ана, бежавшая из Аргентины в Мексику по политическим причинам, чей образ раскрывается через две вставные истории. Первая рассказывает об Актрисе/Хозяйке, жившей в первой половине XX в., и представляет собой вольную интерпретацию биографии голливудской актрисы австрийского происхождения Хеди Ламарр. Вторая история переносит читателя в постапокалиптическое будущее и повествует о судьбе девушки W-218, являющейся своего рода реинкарнацией Актрисы/Хозяйки. На протяжении всего романа Ана, не готовая принять ни одну из предлагаемых обществом «ролей», пытается понять и найти себя. Одни из таких ролей – роль матери и роль дочери. Так, образ матери воплощается через Ану двояко: с одной стороны, образ матери осмысляется с позиции дочери, с другой – Ана осмысляет себя как мать.
Ана уходит от мужа и оставляет с ним дочь, отказываясь исполнять традиционную, принятую обществом «роль» заботливой жены и матери, что вызывает порицание со стороны матери самой Аны. Именно это, как представляется, становится одной из главных причин конфликта Аны с мамой. Мать Аны не поддерживает ее, а, напротив, встает «на сторону» мужчины: «Я очень разозлилась, ведь мама его защищала, обвиняя меня в том, что я без причины разрушила семью. Мама считает, что он такой же, как все мужчины, а это я не такая» [Puig 1979: 74]. Для матери именно Ана является неправильной, не такой, как положено, потому что она разрушила свою семью без каких-либо веских причин. Мать отрицает и осуждает взгляды Аны, не готова ее принимать такой, как она есть. Ана, нуждающаяся в поддержке матери и не получившая ее, лишь сильнее злится на мать, отдаляется от нее: «Как же хочется убить маму, когда она говорит, что я не знаю, чего хочу, что моя главная ошибка – желание быть другой» [ibid: 518]. Более того, Ана воспринимает образ матери и материнство как нечто подавляющее, авторитарное: «Как человек, который возвышается над другими. Поэтому что-то материнское, ведь мать обладает значительным превосходством над другими существами» [ibid: 192]. Постоянное давление и осуждение со стороны матери приводит к тому, что Ана ассоциирует материнскую фигуру исключительно с «превосходством» над ребенком. Можно сказать, что Ана воспринимает образ матери, вслед за Валентином, как «кастрирующую мать».
Между матерью и дочерью возникает кажущееся непреодолимым недопонимание. Ана не доверяет матери, поскольку та никогда ее не поддерживает, а потому старается держать мать на расстоянии. Так, когда серьезно больная Ана оказывается в больнице, она не хочет общаться с матерью и приглашать ее в Мексику. Ана врет Беатрис, что мать не может приехать из-за проблем со здоровьем [ibid: 136]. В действительности Ана не готова видеть мать, потому что та действует ей на нервы, раздражает ее [ibid.: 190]. Позднее Ана признается, что не разрешает матери приехать, хотя та и хочет: «Мама… хочет приехать… но я снова ей запретила» [ibid: 645]. Ана не ожидает от матери поддержки и понима- ния, поэтому, находясь в таком уязвимом ментальном и физическом состоянии, не готова встретиться с ней. Но в то же время она ощущает некоторую неправильность своего поведения, испытывает за него стыд, и потому обманывает Беатрис, придумывая болезнь, которой у матери никогда не было.
В то же время Ана сама не справляется с ролью матери. Для своей дочери она тоже не смогла стать опорой, как не стала для нее ее собственная мать. Ана едва ли испытывает материнские чувства к дочери, в чем признается сама: «я никогда не думаю о Кларите. Даже не вспоминаю о ней» [Puig 1979: 59]. Как и героиня вставной истории Актриса/Хозяйка, Ана с легкостью расстается с дочерью, оставив ее с отцом после развода, потому что тот «души в ней не чает», а после и вовсе уезжает в Мексику одна. Ана не хочет и не готова быть матерью, напротив, она радуется, что дочь никогда не называла ее мамой: «Меня радует только то, что она никогда не называла меня “мама”, потому что я не люблю ее, и хочу, чтобы она меня тоже не любила» [ibid: 565]. В разговоре с Аной Посси замечает, что та не любит ни мать, ни дочь, потому что ненавидит и презирает женщин в целом [ibid: 590]. С этим Ана не соглашается, хотя ранее сама себе признавалась, что не любит дочь и презирает ее, как презирает и саму себя, поскольку «прислуживает» мужчинам [ibid: 565]. Представляется, что Ана в некоторой степени переносит свои «проблемные» отношения с матерью на отношения с собственной дочерью. Она не хочет становиться такой, как ее мать, но не находит другой возможной интерпретации этой роли, а потому предпочитает и вовсе отказаться от роли матери как одной из обязательных ролей женщины. Вместе с тем Ана не разделяет позицию и взгляды подруги-феминистки Беатрис, что лишь усиливает ее внутренний конфликт: Ана не может найти свое место ни в социальном, ни в политическом плане, поскольку ни одна из сторон не совпадает с ее восприятием мира.
Переломный момент для Аны наступает в конце романа, когда болезнь усиливается и героиню отправляют на срочную операцию. Находясь на грани жизни и смерти, Ана вновь погружается в историю W-218, которая, отбывая наказание в заключении, встречает женщину, потерявшую дочь. Повествование от третьего лица сменяется повествованием от первого, и героиня превращается в бесполое существо, ангела, который останавливает кровопролитную войну на родине. Представляется, что именно в этот момент Ана приближается к познанию себя. Так, в концепции Г. К. Юнга архетип Самость представляет собой единение противоположных эле- ментов, таких как мужское и женское начало, что и происходит с героиней. Самость представляет собой, с одной стороны, осознание уникальности человека, с другой – его единение с людьми и окружающим миром, человек «ощущает себя как часть и, вместе с тем, как центр всего» [Короленко, Дмитриева 2018: 2]. Через схожий опыт проходит Ана, воплощаясь в образе бесполого ангела, что запускает процесс осознания и принятия как себя, так и окружающих ее женщин – матери и дочери. Очнувшись после операции, Ана впервые осознанно хочет и готова встретиться с ними: «пусть приедут… поскорее… обе… потому что я очень хочу… увидеть их…» [Puig 1979: 722].
Заметим, что финальный эпизод также имеет и политический подтекст: в нем угадывается связь с общественным движением «Материей площади Мая» (“Asociación Madres de Plaza de Mayo”) [Goldchluk 1998], в рамках которого на центральной площади Буэнос-Айреса собирались матери тех, кто пропал во время «Грязной войны» в период диктатуры. Так, образ матери связывается с политической или, скорее, аполитической борьбой женщин, которые потеряли своих детей из-за противостояния разных политических сил и течений. Заметим, что этот аспект ранее был обозначен в романе «Поцелуй женщины-паука», но именно в романе «Ангельский пол» он воплощается более явно и ярко. Ана, связавшаяся с Пос-си и так называемым «Вельзевулом», которые относятся к противоборствующим политическим сторонам, получает угрозы и вынуждена бежать из страны, чтобы не подвергать свою семью (мать и дочь) опасности. Ана, как Актриса/Хозяйка и W-218, оказывается втянута в политическую борьбу против своей воли, а ее переживание по поводу судьбы родной страны воплощается в образе бесполого ангела, останавливающего бессмысленную братоубийственную войну.
Заключение
Образ матери занимает одно из центральных мест в художественной системе анализируемых романов М. Пуига, постепенно развивается и трансформируется, приобретая новые черты и затрагивая новые аспекты. Так, в романе «Предательство Риты Хейворт» на примере Тото и Ми-ты писатель показывает, как устанавливается и развивается взаимная привязанность между матерью и ребенком, какое влияние она оказывает на становление и формирование его личности. Схожая идея воплощается в романе «Поцелуй женщины-паука» через взаимоотношения Молины с его матерью, который во многом повторяет судьбу и характер Тото: любовь к кинематографу и кинодивам, отказ от мужского начала, выбор традиционно женской модели поведения и др.
Однако в том же романе появляется и образ «кастрирующей матери» через призму восприятия мира Валентином. Теперь мать предстает как авторитарная фигура, довлеющая над ребенком, что приводит к дальнейшему конфликту с миром и самим собой. Идея «кастрирующей матери» продолжает развиваться в романе «Ангельский пол», где проблема отношений мать/дочь занимает одно из центральных мест и раскрывается в двояком образе Аны, которая одновременно является и матерью, и дочерью, но не может справиться ни с одной из этих ролей. Заметим, что конфликт матери и дочери поднимался ранее в романе «Любовь в Буэнос-Айресе», где Гладис и ее мать, будучи творческими личностями, находятся в отношениях своеобразной конкурентной борьбы и соревнования. Таким образом, отношения между героем и матерью предстают трояко: мать является для героя примером для подражания и поддержкой; мать воплощает всё ненавистное герою и подавляет его; герой и мать сливаются в одном образе.
Тем не менее во всех трех романах, каким бы ни представал образ матери, он становится одним из средств раскрытия характеров героев, объяснения их мотивации. Более того, внутренний и внешний конфликты героев часто вытекают из отношений героя с матерью. Так, Тото и Молина, чрезмерно привязанные к матери, перенимают ее модель поведения, что проявляется в пассивности, мягкости, принятии роли подчиненного и угнетаемого, жеманности и женственности и т. д. Валентин, напротив, видит в матери врага и связывает с материнским образом образ буржуазии, с которой борется, хотя и сам является ее частью. Любовь и ненависть, которые Валентин одновременно испытывает к матери, приводят его к отказу принимать женское начало: Валентин не позволяет себе показывать слабые стороны или наслаждаться жизнью, он даже отказывается от любимой женщины. Это приводит его к конфликту с самим собой. Сложные отношения Аны с матерью, которая воплощает в себе ненавистную Ане традиционную женскую роль, не дают Ане принять себя как мать и приводят ее к отказу от этой роли и от дочери, что является одной из ключевых сторон поиска себя – центральной проблемы романа. Так, образ матери в романах М. Пуига тесно сопряжен с процессом взросления, становления, понятия и принятия себя. Примечательно, что он переплетается с образом смерти и связан с политическим противостоянием.
Примечание
-
1 Здесь и далее все цитаты из романов М. Пуига приводятся в переводе автора статьи, что, с одной стороны, обусловлено работой с ма-
- териалом на языке оригинала и необходимостью сохранить важные для анализа аспекты, с другой – отсутствием перевода на русский язык романа «Ангельский пол».
Список литературы Образ матери в романах Мануэля Пуига «Предательство Риты Хейворт», «Поцелуй женщины-паука», «Ангельский пол»
- Башкова Е. В. Мифообраз матери в латиноамериканском романе 1970–2010-х годов: дис. … канд. филол. наук. М., 2017. 199 с.
- Калина Н. Ф. Основы психоанализа. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. 352 с.
- Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Основные архетипы в классических юнгианских и современных представлениях // Медицинская психология в России. 2018. T. 10, № 1(48). C. 1–21.
- Кравченко А. Нарцисс и его отражения // Московский психотерапевтический журнал. 2001. № 2. С. 96–111.
- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах / Рос. гос. гуманит. ун-т. М., 1994. 136 с.
- Сайфуллина М. Н. Образ матери в романе Энн Энрайт «Собрание» // Вестник ТГГПУ. 2017. № 1(47). С. 205–210.
- Тытарь Е. Т. Архетипы родителей как основная предпосылка мироощущения индивида (практика трансперсональной психологии) // Известия ЮФУ. Технические науки. 2005. № 7. С. 196–197.
- Чагина А. П. Пуиг Мануэль // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. 2023. URL: https://bigenc.ru/c/puig-manuel-5d775f/?v=8800246 (дата обращения: 14.11.2023).
- Aira C. El sultán // Paradoxa. Literatura y filosofía. 1991. № 6. P. 27–29.
- Andrea M. El beso de la mujer araña y su transición de la novela (1976), al drama (1983) y al filme (1985). Un enfoque narratológico y decolonial. 2015. 100 p.
- Essoufi M., Puig M. Entretien avec Manuel Puig // C.M.H.L.B. CARAVELLE. Toulouse, 1995. № 64. P. 173–178.
- García M. Suspendido de nuevo en el vacío. Las cartas europeas de Manuel Puig // El intercambio epistolar entre escritores hispanoamericanos y españoles del siglo XX. 2013. P. 237–250
- Goldchluk G. A través de las fronteras (Exilio, identidad y escritura en textos mexicanos de Manuel Puig) // Orbis Tertius. 1998. III (6) P. 1–6.
- King J. Manuel Puig. Cinema and the Novel. Modern Latin American Fiction: A Survey / ed. John King. New York: Hill & Wang. London: Faber & Faber, 1989. P. 286–287.
- Levine S. J. Manuel Puig and the Spider Woman. His Life and Fictions. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000. 448 p.
- Lozano E. El teatro de entrecasa de Manuel Puig: sus cartas familiares desde una perspectiva queer // Revista chilena de literatura. Abril 2013. № 83. P. 89–111.
- Puig M. La traición de Rita Hayworth. 1968. 203 p. URL: http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/ curso/trai_rit.pdf (дата обращения: 17.07.2019).
- Puig M. Pubis Angelical, 1979. 726 p. URL: https://damelibros.com/?sec=ebook&id=10641 (дата обращения: 20.11.2019).
- Puig M. El Beso de la Mujer Araña. Libros Tauros, 2001. 196 p. URL: http://recursosbiblio.url. edu.gt/publicjlg/curso/be_muj.pdf (дата обращения: 10.09.2019)
- Ramírez T. M. Análisis De Los Tres Niveles Narrativos De “El Beso de la Mujer Araña”: Hacia La Conformación Del Homosexual Heroico. Universidad de Chile, facultad de Filosofía y Humanidades, departamento de Literatura, 2005. 81 p.
- Sarlo B. ¿Pornografía o fashion? // Escritos sobre literatura argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007. P. 462–470.
- Vivancos Pérez R. F. Una lectura queer de Manuel Puig: Blood and Sand en la Traición de Rita Hayworth // Revista Iberoamericana, Vol. LXXII, Núms. 215–216, Abril-Septiembre 2006. P. 633–650.