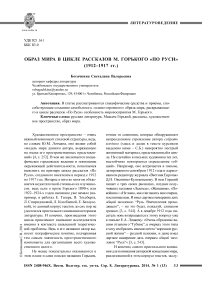Образ мира в цикле рассказов М. Горького «По Руси» (1912-1917 гг.)
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются специфические средства и приемы, способствующие созданию самобытного, «едино-огромного» образа мира, раскрывающего в цикле рассказов «По Руси» особенность мировосприятия М. Горького.
Русская литература, максим горький, рассказы, художественное пространство, образ мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14975274
IDR: 14975274 | УДК: 821.161
Текст научной статьи Образ мира в цикле рассказов М. Горького «По Руси» (1912-1917 гг.)
Художественное пространство – очень важный компонент стилевой структуры, ведь, по словам Ю.М. Лотмана, оно являет собой «модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [4, с. 252]. В чем же заключается специфическое горьковское видение и понимание окружающей действительности, попытаемся выяснить на примере цикла рассказов «По Руси», созданного писателем в период с 1912 по 1917 год. Интерес к ним во многом объясняется недостаточной степенью их изученности, ведь если о прозе Горького 1890-х или 1922–1924-х годов написано уже немало (например, в работах Е. Тагера, Я. Эльсберга, Л. Спиридоновой, Л. Колобаевой, Е. Белоусовой), то данный корпус текстов до сих пор не удостоился пристального внимания историков литературы. И конечно, произведения этого цикла привлекают внимание исследователя именно в контексте заявленной теоретической проблемы. Ведь в его название автор выносит географическое понятие, подчеркивая тем самым значимость пространственного компонента для организации всего художественного целого.
Не менее показательны оказываются в этом плане и сами поиски названия Горьким, точнее те сомнения, которые обнаруживают непреодолимое стремление автора собрать воедино (здесь и далее в тексте курсивом выделено нами – С.Б.) невероятно пестрый жизненный материал, представленный в цикле. Не случайно в письмах художника тех лет, настойчиво повторяется определение «общий». Например, оно встречается в письме, датированном сентябрем 1912 года и адресованном редактору журнала «Вестник Европы» Д.Н. Овсянико-Куликовскому. В нем Горький пишет о трех своих рассказах, позднее получивших заглавия «Ледоход», «Женщина», «Покойник»: «Не знаю, как озаглавить мне очерки, посланные вам. Я имел дерзкое намерение дать общий заголовок: “Русь. Впечатления проходящего”, – но это будет, пожалуй, слишком громко» [3, с. 544]. А в декабре 1912 года писатель новь возвращается к этому вопросу уже в письме Е.А. Ляцкому: «Очень обрадован вашим отзывом о “Губине”, в очерках этого типа я хочу изобразить именно нечто “коренное русской жизни” – русской психики, и даже имел дерзкое намерение дать очеркам общий заголовок “Русь”» [3, с. 543].
И конечно, самого пристального внимания для понимания авторской концепции мира, реализованной в этом корпусе текстов, заслу- живает окончательный вариант заглавия – «По Руси (Из впечатлений проходящего)». Его предложил Д.Н. Овсянико-Куликовский [2, с. 582], тонко уловив основное свойство творимого Горьким мира – его принципиальную открытость и широту. Ведь сочетание существительного «Русь» с предлогом «по» создает ощущения безостановочного движения и достаточно явственно определяет его основной вектор – вектор расширения художественного пространства.
Ещё более точно специфическое горьковское видение и понимание мира – ощущение его бескрайней широты и в то же время целостности - раскрывает, на наш взгляд, авторское определение, которое возникает в рассказе «В ущелье» (1913). Не случайно Горький повторяет его дважды: «Все вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое-огромное» [2, с. 302]. И дальше: « Единое-огромное насквозь пропитано затаенной жизнью, сладко дышит – будит в сердце неутолимую жажду хорошего» [2, с. 309]. Причем, нетрудно заметить, что благодаря форме сложного прилагательного оба свойства изображаемой реальности акцентируются писателем одновременно, как единосущие.
Рассмотрим более подробно средства и приемы, которые художник использует для воплощения своего специфического мировидения и мироощущения в поэтике анализируемых текстов. Самый очевидный из них – огромное количество географических названий, которые Горький неустанно фиксирует в текстах рассказов. При этом далеко не всегда они обозначают фактическое место действия, гораздо чаще понятия такого рода возникают в разговорах персонажей и рассказчика, а также в их воспоминаниях. Именно поэтому Л.А. Смирнова справедливо пишет о том, что содержание каждого горьковского рассказа «расширено во времени и пространстве: исповедью встреченных героем-повествователем людей, его собственными ассоциациями и раздумьями» [6, с. 184]. И действительно, география цикла обширна и разнообразна. Она представлена отдельными городами (Муром, Смоленск, Казань, Рязань, Чистополь, Пенза, Майкоп, Тифлис, Кутаиси, Новороссийск, Дербент, Астрахань, Тамбов, Москва) и целыми странами (Персия, Дагестан, Индия, Америка), реками
(Кура, Сунжа, Кама, Тёша, Волга, Ока, Дунай) и морями (Каспий), а также горами (Кавказ, Эльбрус, Карадаг), в силу чего художественный мир Горького приобретает особую масштабность и даже монументальность.
Это ощущение возникает у нас еще и потому, что в авторской картине мира практически нет мелочей. Взгляд художника привлекают исключительно крупные компоненты – такие, как небо, звезды, земля, море. Каждое из этих понятий само по себе содержит семантику простора и широты, а в сочетании друг с другом они делают изображаемую автором реальность поистине грандиозной. К тому же названные словоформы Горький нередко использует в сочетании с существительным «пустота» («пустота неба», «пустота степи»), которое не просто раздвигает рамки изображаемого им мира, но и максимально углубляет его, создавая ощущение бесконечности.
Более того, в поле зрения автора оказывается не только земной мир, но и космос: «В небе неподвижно торчат черные деревья, закрывая золотой Млечный Путь » [2, с. 182]. Неоднократно в текстах горьковских рассказов тех лет упоминается Венера, например, в произведении «Страсти-мордасти» (1917): «Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера» [2, с. 524]. Или – в рассказе «Тимка» (1917): «Вот и сегодня – еще не погасла Венера, а уж меня разбудил непрерывный, назойливый звук…» [2, с. 483]. Таким образом пространство увеличивается до вселенских масштабов.
И все же мир горьковских рассказов 1912–1917 годов только кажется бескрайним. Ведь автор неустанно маркирует его границы, хотя и весьма условные. Мы отчетливо видим это, например, в рассказах «Покойник» (1913) и «На Чангуле» (1915): «Пылают зарницы в черном небе на краю степном , там, где степь подходит к морю…» [2, с. 364]; «…солнце опустилось за край степи » [2, с. 535]. Благодаря им художественная реальность горьковских рассказов, несмотря на свою грандиозность, все же приобретает отчетливо выраженные земные очертания.
Также задаче собирания необъятного и необозримого пространства воедино служат у Горького существительные «шапка», «по- лог», «шатёр», «купол». Являясь атрибутами одежды и жилища, они тесно связаны с повседневной жизнью человека, близки ему и понятны, а значит, меняют масштаб изображения и делают великое уже не таким недостижимым: «Южная ночь плотно покрыла землю теплой черной шапкой…» [2, с. 538]; «…под раскаленным почти добела куполом небес – необоримая тишина пустоты»; «…только устье еще не завешено черным пологом южной ночи» [2, с. 304]; «Круг земной свободен, широк, уютно накрыт шатром небес…» [2, с. 372].
В создании единого-огромной картины мира активно задействованы автором образы мглы и тьмы. Мгла размывает контуры и очертания предметов, благодаря чему всё вокруг становится однородным: «Ущелье зарастало мглою; становясь все гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, камни как будто пухли, сливаясь в сплошную массу синеватой черноты…» [2, с. 302].
Образ тьмы решает ту же задачу, еще интенсивнее сужая и выравнивая художественную реальность анализируемых рассказов. Ведь если мгла лишь растушевывает контуры предметов, то тьма в буквальном смысле уменьшает их в размерах или даже поглощает. Наиболее ощутимо это, например, в таком рассказе, как «Женщина» (1913): «…земля дышит тьмою и тьма давит , топит теплой черной духотой своей серые бугры хат. Церковь была тоже невидима, точно ее стерло » [2, с. 277]. А вот фрагмент из произведения «Губин» (1912): «Дома, прижатые тьмою , кажутся низенькими, точно холмы могил » [2, с. 180].
При этом в изображении Горького тьма не враждебна по отношению к человеку. Ведь, стирая объекты окружающего мира и сокращая тем самым его размеры, она ничуть не угнетает героя. Подтверждение сказанному мы находим в рассказе «В ущелье»: «Надвинулась, налегла мягкой тяжестью черная ночь, такая же, как вчера, - душистая и теплая , ласковая, как мать» [2, с. 319] . А вот еще один фрагмент, взятый нами из того же текста: «Ночь становится все гуще, душистей, все ласковее обнимает тело ; в ней купаешься, как в море, и как морская волна смывает грязь кожи, так и эта тихо поющая тьма освежает душу » [2, с. 307].
Наконец, высшей степенью выражения идеи замкнутости мира является образ земного круга. Он возникает в рассказе «Птичий грех» (1915): «Земля сжалась в небольшой мокрый круг ; отовсюду на него давит плотная, мутно-стеклянная мгла, и круг земной становился все меньше…» [2, с. 442]. Причем круг этот неотвратимо сужается до точки: « В центре земли – три желтые шишки, три новеньких избы, - очевидно, выселки из какой-то деревни, невидимой во мгле » [2, с. 442].
Последовательно развивая принципиальную для него идею сложного единства изображаемого мира, автор включает все его составляющие (степь, небо, солнце, звезды, облака) в своеобразный круговорот, в котором происходят различные метаморфозы: изменяются очертания привычных объектов, или же одни предметы уподобляются другим. При этом чаще всего в изображении Горького меняются местами небо и море, а также небо и река: «Над нами очень синее небо, вокруг – зеленоватое море, как будто и под нами небо » [2, с. 551] ; «…море и небо странно похожи друг на друга – небо тоже кипит» [2, с. 352] ; «Изорванная полоса неба над ущельем была похожа на синюю реку …» [2, с. 325]. Особую роль в этом процессе Горький отводит глаголу «отражать» и однокоренным с ним лексическим формам, которые фиксируют общие свойства различных предметов, т.е. соотносят, связывают их друг с другом: «В небе тихо плыли красные облака , изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня» [2, с. 170]; «В море, у самой отмели, поблескивают серебряные сельди, они кажутся отражениями бескрылых птиц, плавающих в воздухе …» [2, с. 552].
Однако все эти метаморфозы не нарушают привычного мироустройства, потому что даже в хаосе Горький ощущает гармонию, о чём прямо говорит в рассказе «Калинин» (1913): «…в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли» [2, с. 332].
Ощущение гармонии возникает, во-первых, благодаря тому, что художник четко организует пространство своих рассказов. Он последовательно выстраивает его как по вертикали, так и по горизонтали и тем самым не дает миру «опрокинуться»: «Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих – много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук» [2, с. 279]; «Тихо, жарко, безлюдно на земле, в мутно-синем, выгоревшем небе – раскаленное добела солнце» [2, с. 245]. В произведении под названием «Калинин» (1913) читаем: «…с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним, устало и бессильно; слева – распростерлась пустыня…» [2, с. 332]. А в рассказе «Покойник» (1913) подобным образом соотносятся стороны света: «На западе растут и пухнут облака, похожие на синий дым и кровавое пламя <…> А на востоке уже темно и наползает оттуда черная душная ночь» [2, с. 362].
Во-вторых, гармоничный характер творимого писателем мира весьма отчетливо выражает его звучание. Реальность наполняется разнообразными звуками («кричат, поют, смеются»), и все они непременно складываются в песню, что позволяет Л.А. Спиридоновой говорить о специфическом «обрамлении» горьковских рассказов музыкальными звуками [7, с. 51]. Подтверждение тому мы находим практически в каждом из произведений цикла «По Руси»: «Течет над землей тихий сочный гул , - от него звон жаворонков становится еще задорнее и радостнее. Поет земля » [2, с. 377]; «… море густо поет неясную, задумчивую песню » [2, с. 350]; « Поет море ночной гимн ; камни, заласканные волнами, глухо гудят в ответ» [2, с 351]. И, наконец: «…звуков – немного, но кажется, что все вокруг поет и говорит , заставляя людей молчать» [2, с. 296].
Музыкальность внешнего мира подкрепляет то, что писатель широко привлекает характерную лексику для его описания: «Голос солдата напоминает отдаленный звук бубна , редкие вопросы Василия задумчиво певучи » [2, с. 220]; «Голос его звучит немолчно, певуче , и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов …» [2, с. 169]. Еще один пример из рассказа «Калинин»: «Плеск, шорох, свист – все скипелось в один непрерывный звук , его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы » [2, с. 326].
Отдельного внимания заслуживает место человека в изображаемой Горьким дей- ствительности. Еще Е.А. Ляцкий, являвшийся в 1912 -1913 гг. редактором журнала «Современник», отмечал «любовное сочувствие», «сочувствие причастное», с которым Горький «вкрапливает в природу нелепые куски человеческой жизни» [3, с. 542]. Действительно, человек является частью изображаемой автором реальности и потому задействован в круговороте вещей и стихий. Идея единства прямо озвучена автором, например, в рассказе «Ералаш» (1916): «…изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя» [2, с. 381].
В то же время человек – безусловный центр творимого Горьким мира, что подтверждают следующие фрагменты его текстов: «…такою же окаянной былинкой и я чувствую себя в окружении жаркой пустоты под синим небом…» [2, с. 368]; «Целый день в небе – солнце , а на земле – только я …» [2, с. 536]. Или: «В степи чувствуешь себя, как муха на блюде – в самом центре его, чувствуешь, что земля живет внутри неба в объятии солнца, в сонме звезд, ослепленных его красотою» [2, с. 357].
Исходя из сказанного, абсолютно естественными становятся столь частые для малой прозы Горького параллели между природным явлением и состоянием человека: « Холодно на земле , холодно и грязно; в душе тоже – холодное безразличие» [2, с. 442] . Аналогичные случаи мы находим и в других текстах цикла «По Руси». Один из них – рассказ «Гривенник» (1916): «Да, на припеке таяло сильно , с крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней, сердце тоже горело радугой и таяло » [2, с. 451]. В качестве другого примера обратимся к рассказу «Герой» (1915): «…из-за колокольни на меня смотрело мутно-красное солнце », – и практически тут же: «Он глубоко вздохнул, отирая платком лицо, такое же мутно-красное, как тамбовское солнце » [2, с. 462].
Таким образом, целенаправленно используя широкий арсенал художественных средств и приемов, в цикле «По Руси» Горький создает картину мира, максимально отвечающую его представлениям об окружающей действительности. Это грандиозное, беспредельное, но одновременно целостное пространство.
Список литературы Образ мира в цикле рассказов М. Горького «По Руси» (1912-1917 гг.)
- Белоусова, Е. Г. Русская проза рубежа 1920-1930-х годов: кристаллизация стиля (И. Бунин, В. Набоков, М. Горький, А Платонов)/Е. Г. Белоусова. -Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. -272 с.
- Горький, М. Полное собрание сочинений: в 25 т./М. Горький. -М., 1972. -Т. 14. -590 с.
- Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка/АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Отв. ред. И. С. Зильберштейн, Н. И. Дикушина. -М.: Наука, 1988. -Т. 95. -1079 с.
- Колобаева, Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа 19-20 веков/Л. А. Колобаева. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -333 с.
- Лотман, Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя/Ю.М. Лотман//Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. -М.: Просвещение, 1988. -С. 251-292.
- Муратова, К. Д. Горький в годы революционного подъема и первой мировой войны/К. Д. Муратова//История русской литературы: В 10 т./АН СССР. Ин-т рус. лит. -Л.: Наука, 1954. -Т. 10. Литература 1890-1917 годов. -С. 359-402.
- Смирнова, Л. А. М. Горький/Л.А.Смирнова//Русская литература конца XIX -начала ХХ века. -М.: Просвещение, 1993. -С. 157-189.
- Спиридонова, Л. А. «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться…» Ранние романтические произведения М. Горького/Л. А. Спиридонова//Русская словесность. -1999. -№ 3. -С. 50-53.
- Тагер, Е. Б. Избранные работы о литературе/Е. Б. Тагер. -М.: Сов. писатель, 1988. -506 с.
- Эльсберг, Я. Е. Стиль М. Горького/Я. Е. Эльсберг//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. -М.: Наука, 1965. -503 с. -С. 98-124.