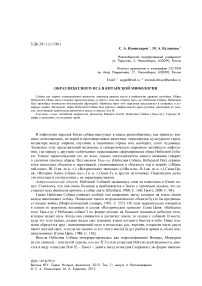Образ небесного пса в китайской мифологии
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Кудинова Мария Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Собака как первое одомашненное животное занимала важное место в мифологии древних китайцев. Образ Небесной Собаки имел сложное происхождение, в связи с чем сам термин Тянь-гоу (Небесная Собака, Небесный Пес) приобрел множество воплощений (функций). Наиболее ярко этот персонаж представлен в солярных и лунарных мифах. Возможно, образ Небесной Собаки был связан с мифологемой героя-лучника, защитника от злых сил, получившей наибольшее развитие в цикле о стрелке Хоу И.
Китайская мифология, фольклор южного китая, небесная собака (тянь-гоу), стрелок и, мифы о затмениях, культурный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14737817
IDR: 14737817 | УДК: 291.13
Текст научной статьи Образ небесного пса в китайской мифологии
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение
нающего собаку. Когда оно появляется на небе, велика опасность войн и пожаров [Eberhard, 1968. P. 168; Гроот, 2000. С. 96]. В китайской астрологии Тянь-гоу - это также одно из созвездий (группа из семи звезд в созвездии Корабль), будто бы охраняющее богатство [Мифологический словарь, 1991. С. 557]. Выделялось и еще одно созвездие со сходным названием – Пес ( Гоу , Гоу-син ) - группа из двух звезд в созвездии Стрельца [Большой китайско-русский словарь, 1984. С. 448].
В «Девяти песнях» 1 упоминается звезда Небесный Волк, рядом с которой расположены еще две звезды – Лук и Стрела. В гимне «Владыке Востока» из этого цикла говорится о стрельбе из лука Владыки Востока (то есть духа солнца или самого солнца) в Небесного Волка и о победе над ним [Цюй Юань, 2000. С. 42; Яншина, 1984. С. 111–112]. В данном случае, Небесный Волк и Небесная Собака могли соответствовать одному и тому же мифологическому персонажу.
Сходный мотив звезды или созвездия как собаки, которая посажена на цепь, но пытается сорваться, что несет опасность для всего мироздания, распространен в мифах разных народов. Соответствующее название звезды – Собачий Хвост или Собака – было известно в Риме и в Древней Индии [Иванов, 1980. С. 116].
Культурный герой, связанный с земледелием. На юге Китая с Небесной Собакой связывают происхождение злаков. По одной из версий мифа, она впервые принесла зерна всех злаков с неба и накормила ими людей 2.
Образ собаки, приносящей рис на своем хвосте, видимо, существовал в контексте мифа о потопе. Собака переплывала какой-либо водоем, держа хвост над поверхностью воды, чтобы зерна риса на хвосте не были смыты. Однако, несмотря на усилия, она потеряла все зерна кроме тех, что были на самом кончике хвоста. По мнению Вольфрама Эберхарда, связь с водой исключает возможность появления в этом сюжете каких-либо иных злаков, кроме риса. Миф исходит из специфики заливного земледелия, когда на рисовых полях побеги возвышаются над водой так же, как хвост плывущей собаки; соответственно, он не мог быть связан с другими способами рисосеяния и агрикультуры в целом. Все эти мифы – южно-китайские и ведут свое происхождение из районов от Сычуани до Цзянсу. На юго-западе они распространяются за границы Китая [Eberhard, 1968. P. 209–210]. Поэтому можно предположить их связь с фольклором неханьских народов, населяющих земли к югу от Янцзы. Так, о собаке, которая приносит рис в своей шерсти, говорится в мифах ляньнаньских яо [Чеснов, 1982а. С. 193]. С верой в то, что именно собаке люди обязаны возникновением земледелия, связан обычай во время праздника первин подносить кашу (или пампушки) из риса нового урожая в первую очередь собаке, распространенный у хани, цзинпо, пуми, буи и лису 3 [Комиссаров, Дзибель, 2010].
Злой дух, демон. В средневековом Китае было распространено поверье о Небесном Псе -злом дух, живущем на Луне [Мифологический словарь, 1991. С. 557]. В то же время Небесная Собака считалась демоном, чье влияние препятствует рождению сыновей или сокращает срок жизни новорожденных [Васильев, 2001. С. 397]. Она питалась человеческой печенью и могла нападать на детей [Eberhard, 1968. С. 168]; пожирать мальчиков [Рифтин, 2007. С. 613]. В «Истории Южных династий» («Нань ши», VII в.) Ли Яньшоу говорится: «В тринадцатом году Тяньцзянь (514 г.), в шестом месяце в столице ходили слухи о том, что чэн-чэн крадут печенку и кровь людей и кормят ими Небесную Собаку. Люди пребывали в великом страхе в течение двадцати дней». В этом же сочинении сказано: «А в пятом году Датун (539 г.) в столице распространяли слухи, что Сын Неба вынимает у людей печень и кормит ей Небесную Собаку. Молодые и старые были так сильно напуганы, что после захода солнца запирали двери на засовы и вооружались дубинками. Паника прекратилась только через несколько месяцев» (цит. по: [Гроот, 2000. С. 95]). По преданиям, это кровожадное существо в древности было девушкой, которая умерла, не успев выйти замуж. Став злым духом и по- селившись на одной из звезд, она стремилась убивать детей, чтобы кто-нибудь занял ее место, а она сама смогла бы переродиться в человека. Для защиты от этого демона китайцы, во-первых, изображали стрелков, выпускавших стрелы в Небесного Пса (иногда в качестве такого стрелка выступал Хоу И), и, во-вторых, наделяли детей специальными талисманами из смешанных вместе пучков волос ребенка и собаки (этот локон обычно вшивали в одежду ребенка) [Васильев, 2001. С. 397].
Защитник от злых духов. Небесная Собака могла выступать и в роли защитника от злых сил. По одному из преданий, это существо, похожее на лисицу, но с белой головой, способное отвращать всякие беды, напасти, отпугивать лаем разбойников. Ее появление знаменует наступление мира и спокойствия [Мифологический словарь, 1991. С. 557; Память..., 2006. С. 122].
Своеобразным решением дилеммы восприятия собаки как воплощения злых духов и защитника от оных можно считать рассказ в «Ши цзи» об одном из циньских ритуалов. Там сообщается, что на 2-м году правления циньского Дэ-гуна (676 г. до н. э.) «впервые [установили периоды] фу и использовали собак для защиты от ядовитых насекомых» [Сыма Цянь, 1975. С. 226; 1984. С. 112]. В комментариях по этому поводу сказано, что «по верованиям того времени, собаки представляли светлое начало – ян , способное преодолеть действие темных сил. Собак убивали, разрезали, растягивали и прибивали их шкуры на воротах и дверях, отгоняя ядовитых гадин. До последнего времени в Китае сохранялся обычай в жаркое время года на воротах и дверях для борьбы с вредными насекомыми развешивать пахучие травы – чанпу, что, вероятно, было отголоском древних обычаев» [Сыма Цянь, 1975. С. 297–298]. Отметим, во-первых, что данный ритуал связан с календарными, т. е. в конечном счете с небесными (солярно-лунарно-астральными) обрядами. Во-вторых, собаку жестоко убивали (пытали) в наказание за зло и в то же время преподносили как искупительную жертву с целью изгнания злых сил и торжества добра.
Небесная Собака считалась также и единственным защитником от злых духов, принимающих облик огромных сов и других птиц. В «Собрании древних надписей с пояснениями» Оуян Сю («Оуян вэньчжунгун вэньцзи», XI в.) приведена легенда, согласно которой Чжоу-гуну однажды явилась птица с десятью головами и десятью клювами, которая на самом деле была злым духом. Птица громко кричала, чем чрезвычайно раздражала Чжоу-гуна и нагоняла на него тоску. Он приказал убить ее, но никто не мог этого сделать. Тогда Небо послало Небесную Собаку, которая откусила одну из птичьих голов. С тех пор рана птицы кровоточит, и эта кровь смертоносна. Похожий сюжет изложен в китайской сказке «Девятиглавая птица», где говорится о противостоянии злого духа, принявшего облик птицы с десятью головами, и Небесной Собаки, которая защищала от нее людей и откусила одну из птичьих голов [Волшебная флейта..., 1989. С. 109–112]. Существуют и другие легенды о злых духах, принимающих облик девятиголовых птиц, которые боятся лая небесных собак [Eberhard, 1968. P. 166–167]. Собак боялась и считавшаяся в древности темным, злым существом сова, так как по преданиям собака откусила одну из ее девяти голов [Ibid. P. 162].
В позднем Средневековье Небесная Собака выступала в качестве помощника Эр-лана. Эр-лан («второй сын»), Эр-лан-шэнь («божество второй сын»), Гуанькоу Эр-лан («второй сын из Гуанькоу»), Гуанькоу-шэнь («божество из Гуанькоу») в поздней мифологии выступал как одно из водных божеств, а также как покровитель дамб, защищающий от наводнений [Риф-тин, 1982б. С. 667]. В китайских драмах он выступал в качестве борца с демонами. Также он считался лучником, который убил девять солнц. Эр-лан имел свои храмы, в которых нередко изображалась и его собака – спутник божества и помощник в борьбе со злыми силами [Eberhard, 1968. P. 167].
Изначально Эр-лан был сычуаньским божеством и мог замещаться Чжан-сянем, культ которого тоже возник в Сычуани и распространился по всему Китаю примерно с XI в. Чжан-сянь («Чжан-небожитель») почитался как божество, дарующее мужское потомство. В Древнем Китае стрельба из лука играла значительную роль в обряде родин. Существовал обычай по случаю рождения мальчика вывешивать на левой створке дверей (поскольку левая сторона связывалась с мужским началом ян) лук из тутового дерева. Затем из него стреляли в небо, землю и четыре стороны света – «туда, где проходит деятельность человека» (см.: [Кравцова, 2007. С. 752]). Этот обычай в Сычуани трансформировался в культ Чжан-сяня, однако собака для него уже не помощник, а противник, в которую он стреляет; такое изменение «полярности» объектов – не редкость в мифологии. Так или иначе, Чжан-сянь контролирует действия Небесной Собаки, отгоняя ее выстрелами, подчиняет ее себе.
Уважительное наименование божества-лучника Чжан-гун («господин Чжан») омофонично словосочетанию чжан гун – «натягивать лук» [Рифтин, 1982а. С. 626; Eberhard, 1968. P. 167]. Считалось, что Чжан-сянь может защитить ребенка от злонесущей Небесной Собаки, стреляя в нее из лука персиковыми стрелами [Васильев, 2001. С. 411–412]. В средние века культ Чжан-сяня был дополнен многочисленными подробностями. Согласно одной из историй, первое культовое изображение придумала Хуа-жуй, наложница последнего правителя Позднего Шу (государство на территории Сычуани) Мэн Чэна; в дальнейшем ее также почитают как богиню-чадоподательницу [Рифтин и др., 2007. С. 715].
Виновник солнечных и лунных затмений. С образом Небесной Собаки связано и существующее в китайском фольклоре объяснение причины солнечных и лунных затмений. Считалось, что только звуки гонгов и барабанов и страшный шум, который поднимался на земле, могли отпугнуть Небесного Пса и заставить его отказаться от намерения проглотить светило [Васильев, 2001. С. 415–416; Память.., 2006. С. 106]. Это представление относится к числу древнейших; изображение собаки, глотающей солнце или луну, зафиксировано в росписи на неолитической керамике.
Широкое распространение получила история «Собака кусает луну» (другой вариант названия – «Собака проглатывает солнце и ест луну»). В ней рассказывается, что однажды Лучник выстрелил в Солнце и Луну, и в Поднебесной наступил мрак. Люди попросили Небесную Собаку вернуть Луну и Солнце и пообещали ей за это 50 доу риса. Но когда Собака выполнила поручение, люди забыли отдать ей обещанный рис. С тех пор собака, когда проголодается, ест солнце или луну [Память.., 2006. С. 122–123].
Еще одно предание явно литературного происхождения объединяет в себе несколько мотивов и основных персонажей. Оно необычайно популярно в Китае, особенно в связи с Праздником середины осени, и приводится практически без изменений на всех информационных сайтах 4. Согласно этой легенде, после того как Стрелок И выстрелил в девять из десяти солнц и спас народ от бедствия, Си-ван-му (Владычица Запада) в награду дала ему снадобье бессмертия. Однако эликсир в одиночку выпила жена Лучника Чан Э и вознеслась в небо. Охотничья собака Хоу И по имени Хэйэр (Черное ухо), увидев это, с лаем вбежала в дом, слизнула остатки снадобья и вслед за Чан Э тоже поднялась на небо. Услышав лай Хэйэр, Чан Э спряталась на луне. Однако Хэйэр одним махом достигла луны и проглотила ее вместе с Чан Э. Когда Юй-ди (Нефритовый император) и Си-ван-му узнали, что луна была съедена черной собакой, они отправили небесное войско схватить ее. Но узнав в собаке охотничьего пса Стрелка И, Си-ван-му сделала Хэйэр Небесной Собакой и приказала стеречь Южные небесные ворота. Тогда Хэйэр выплюнула луну и Чан Э, а Чан Э с тех пор поселилась на луне.
В сказке народа кава «Сирота Янь Жань» излагается легенда, объясняющая существование лунных фаз. Луна похитила волшебный лист дерева, исцеляющий от всех болезней, принадлежавший главному герою. Чтобы вернуть его, люди построили лестницу до неба. Взобраться по ней вызвалась собака. Но когда она уже забралась на небо, белые муравьи подгрызли основание лестницы, и она рухнула на землю, а собака осталась на небе. Разозлившись, собака стала преследовать луну, а догнав, стала поедать ее. Стоит луне стать круглой, как собака откусывает от нее кусочек [Волшебная флейта…, 1989. С. 158–164].
Сходные сюжеты присутствуют в мифах многих народов Азии. В корейском мифе о лунных и солнечных затмениях царь Страны тьмы (Камак нара) посылает огненных собак за солнцем и луной, но им не удалось их украсть, потому что солнце было слишком горячим, а луна – слишком холодной. Куски солнца и луны, обгрызенные собаками, не светятся, что является причиной солнечных и лунных затмений [Концевич, 1980. С. 668]. Нивхи объясняли лунные затмения тем, что луну пытается съесть живущая на ней собака. Во время лунных затмений они старались испугать эту собаку звоном железных предметов, стреляли в нее из лука или из ружей [Иванов, 1982. С. 79]. Сходные представления существовали у населения Западной Сибири [Новиков, 1998. С. 465–467] и Центральной Азии [Ларичев, 2007]. В астральных мифах тибето-бирманских народов также распространен образ собаки. У качи-нов собака, гоняясь за луной, вызывает затмения. В чинском мифе рассказывается о том, что собака преследует солнце, чтобы отомстить за нанесенную последним обиду [Чеснов, 1982б. С. 505–506].
Таким образом, зачастую образ Небесной Собаки был связан с огнем, войной, мужским началом. Мифы о Небесной Собаке сочетают в себе мотивы астральных мифов, а также мифов о собаке как о вредоносном существе и собаке – защитнике от злых сил. Также обнаруживается устойчивая связь образа Небесной собаки в различных ее ипостасях с божествами-лучниками и их главными атрибутами (лук и стрелы).
По нашему мнению, один из источников формирования сложного образа Небесной Собаки тесно связан с мифами о Стрелке И (Хоу И). В их составе можно выделить стадиально разные слои, но в данном случае наибольший интерес представляет сюжет о стрельбе в солнца, который, по мнению исследователей, был одним из самых древних [Яншина, 1984. С. 198]. Этот миф был самым популярным и внешне четко оформленным из всех солярных сюжетов китайской мифологии. Впервые в письменном виде он изложен в 8-м цзюане трактата «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.). Во времена царствования совершенномудрого правителя Яо на Поднебесную обрушилось страшное бедствие: на небе в облике птиц (трехлапых воронов) внезапно появилось сразу десять солнц, нещадно паливших землю. Видя страдания людей, боги послали Стрелка, который выстрелами из лука сразил девять солнц из десяти и тем самым восстановил мировой порядок (см., например: [Кравцова, 1994. С. 145–146]).
В монографии по мифологии тайваньских аборигенов Б. Л. Рифтин показал, что в Восточной и Юго-Восточной Азии существовала общая мифологема «лишних солнц», с которыми могли бороться разными способами (чаще с помощью лука, но также шеста, ножа и даже заклинания). Наиболее концентрированно данные мифы представлены вдоль побережья и на островах Тихого океана. То, что указанный сюжет практически не встречается за пределами Пасифики и прилегающих к ней районов, наводит на мысль о генетическом родстве записанных сказаний, хотя, судя по огромной территории охвата, истоки эти относятся к глубокой древности.
Обращает на себя внимание часто встречающаяся орнитоморфность солнца (солнц) и его связь с мифологемой мирового древа. В наиболее законченном виде эта идея представлена именно в китайской мифологии. Как отмечал Б. Л. Рифтин [1980. С. 653], «…представление о космической вертикали воплощено в образе солнечного дерева – фусан , в основе которого лежит идея древа мирового. На дереве фусан живут солнца – десять золотых воронов. Все они – дети матушки Си-хэ, живущей за Юго-Восточном озером». Именно этих воронов сбивает стрелок Хоу И, в облике которого также прослеживаются «птичьи» черты. Можно предположить, что орнитоморфность культурных героев, уничтожающих «лишние» солнца в мифах других народов (нивхов, цоу, лоба и пр.) также является проекцией изначального образа солнца-птицы.
Солнечная Шелковица ( фусан ), растущая на востоке, является одним из устойчивых элементов мифа о Стрелке И. Протоформа иероглифа сан – пиктограмма, изображающая дерево с кружками (солнцами) на ветвях, присутствует еще в гадательных надписях. Иероглиф «восток» – дун образован за счет двух компонентов: «дерево» и «солнце». Шелковица в то же время была тотемным деревом иньцев, о чем свидетельствуют легенды об основателе государства Шан Чэн-тане и его министре И Ине, апокрифические предания о рождении Конфуция, а также тот факт, что алтарь правящего дома и царства Сун, наследовавшего домену иньских правителей, находился в Шелковичной роще – Санлинь.
Помимо восточного солярного дерева в китайской мифологии имелось западное – Дерево Жо ( жому ), на ветвях которого обитали солнца не в облике воронов, а в виде красных плодов или цветов. По мнению М. Е. Кравцовой, именно дриадная солярная символика (солнечные цветы на солнечном дереве) была изначальной для Китая, зооморфное же воплощение солнца гораздо более позднее и связано с превращением птицы-тотема иньцев в солярную птицу [Кравцова, 1994. С. 145–156].
Однако уникальная находка китайских археологов в пров. Сычуань позволяет, на наш взгляд, уточнить предложенную схему. Речь идет об открытиях, сделанных при изучении культуры саньсиндуй эпохи развитой бронзы (XIX–XI вв. до н. э.), основные памятники которой сосредоточены в долине Чэнду. Наибольшее внимание исследователей привлек набор бронзовых, золотых и нефритовых изделий в двух ямах (жертвенниках или хранилищах), открытых в 1986 г. на территории саньсиндуйского городища. Комплекс из «жертвенной» ямы № 2 отнесен к позднему (5-му) периоду культуры саньсиндуй , который в целом соответствует 3-му этапу Иньского городища [Китайская археология.., 2003. С. 506]. Последний в соответствии с исправленной хронологией Аньяна в абсолютных датах определяется периодом 1140–1084 гг. до н. э. (см.: [Варенов, 1989. С. 44]).
Центральное место в этом наборе занимают скульптуры и маски, которые связываются исследователями с шаманскими ритуалами (см.: [Линь Сян, 1987. С. 80–81; Чжан Сяома, 2003]). Внешний облик скульптурных голов (большие глаза, крупный нос, часто с горбинкой, «загадочная» улыбка) не обычен для искусства Шан-Инь. Шаманская интерпретация бронзовых и нефритовых личин подкрепляется находкой во второй яме двух бронзовых деревьев. Из них одно (№ 1) сохранилось почти полностью, его высота 3,84 м. Дерево № 2 сохранилось хуже; в целом, оно похоже на первое.
Деревья располагались на подставках в виде соединенных вместе трех округлых зубцов, которые интерпретируются как художественное воспроизведение иероглифа шань (гора), украшенных «облачными» и солярными узорами. Очевидное их отождествление с мировым древом подчеркивается трихотомией дерева № 1: три вершины «горы», три узла на стволе, откуда отходит по три большие ветви, из которых одна, в свою очередь, имеет отросток. С их концов свисают плоды, которых всего двенадцать, что не только не нарушает троичной структуры бронзовых скульптур, но и обогащает нумерологический набор еще одним «магическим» числом, которое, как правило, имеет календарную интерпретацию. На каждой из больших ветвей сидит по птице (на одной нижней ветке птица не сохранилась, но она восстанавливается по сохранившейся подставке и сопоставлению с деревом № 2). Таким образом, птиц всего девять, хотя можно предположить и наличие десятой птицы – на верхушке дерева. Но, в любом случае, такая птица занимала особое положение. В качестве навершия могла использоваться бронзовая статуэтка петуха, найденная в едином комплексе с деревьями. Во всяком случае, она крепилась на какую-то подставку, поскольку в нижней части фигурки имелась небольшая втулка. Каждая из птиц посажена прямо в чашечку раскрывшегося цветка, чем наглядно снимается отмечавшаяся выше оппозиция между зооморфной и дриад-ной солярной символикой. Троичность композиции подчеркивается рядом деталей в фигурках птиц – например, тремя зубчиками хохолка и тремя большими перьями, составляющими хвост [У Вэйси, Чжу Яжун, Цзян Цун, 2005. С. 64].
Большинство саньсиндуйских находок использовались в ритуальных действах. Китайские авторы считают, что ямы представляли собой жертвенники, в которых осуществлялись приношения божествам неба, земли и гор. Об этом свидетельствуют следы воздействия огня, особенно в первой яме, где нашли также кости животных, из которых перед сожжением, возможно, выпустили всю кровь [Чэнь Сяньдань, Чэнь Дэань, 1987]. Исходя из общего контекста находок, можно предположить, что китайские археологи выявили следы обряда уничтожения лишних светил, т. е. установления (восстановления) космического порядка (подробнее см.: [Комиссаров, 2010]), главным «реквизитом» которого являлось бронзовое дерево с девятью или, возможно, десятью (9 + 1) птицами на ветвях. Такие числа воспроизводятся в мифах разных народов: девять – у вьетнамских тай, наси, буи, лоба, а десять (помимо ханьцев) 5 – у бирманских цзинпо, а также у калифорнийских индейцев шаста [Ли Фуцин /Б. Л. Рифтин/, 2001. С. 127, 130, 131, 133, 144]. Возможно, в качестве десятой птицы на верхушке дерева, соответствующего фусан, крепилась фигурка петуха, который должен был призывать оставшееся после «экзекуции» солнце взойти над землей. Такая роль петуха отражена в мифологии многих народов, но в контексте мифа о множестве солнц представлена, в первую очередь, в преданиях мяо, чжуанов, яо, цзинпо и вьетнамских чамов [Ли Фуцин /Б. Л. Рифтин/, 2001. С. 141]. В наиболее развитом виде она отражена в китайских источни- ках, где говорится о нефритовом петухе на верхушке фусан, который дублировался золотыми и каменными петухами на других выдающихся деревьях и горах [Юань Кэ, 1987. С. 139– 140, 309].
Э. М. Яншина полагает, что сюжет о стрельбе в солнца восходит к обрядам, направленным на возвращение солнца и оживление природы, существовавшим на стадии охотничьего хозяйства. Эти обряды имели сходство с обрядом космической охоты, распространенным у охотничьих народов Севера. Прототипом уничтожения девяти из десяти солнц, по ее мнению, «была ритуальная охота-погоня-добывание богом-охотником небесного светила». Такой версии происхождения данного мифа соответствует и зооморфное воплощение солнца в образе ворона, охота на солнце-ворона сближается с охотой на небесного лося у эвенков и другими сюжетами небесной охоты [Яншина, 1984. С. 186–187].
Итак, происхождение мифа о стрельбе в солнца связано с ритуалами, символизировавшими установление миропорядка либо обновление жизненного устройства с наступлением весны. Важнейшими элементами данного мифоритуального комплекса были представления о множественности солнц и их орнитоморфном воплощении, а также уничтожение «лишних» светил героем-лучником. С этим блоком оказывается тесно связанной и мифологема Небесной Собаки.
В мифологии нередко происходит метонимический перенос: число персонажей превращается в число каких-либо частей тела у одного персонажа, и наоборот. Девять солнечных птиц из мифа о Стрелке И со временем могли превратиться в птицу «о девяти головах». А это наводит на мысль о связи образа демонической девятиглавой птицы, распространенного в китайской мифологии и фольклоре, с древними солярными мифами. Также известны мифы, объясняющие природу солнечных и лунных затмений нападением на светила Небесной Собаки. Таким образом, сюжет о нападении Небесной Собаки на злого демона в облике девятиглавой птицы, возможно, восходит к солярному мифу.
Обратимся к образам Эр-лана и Чжан-сяня – хозяев Небесной Собаки и по совместительству защитников как от нее, так и от других демонов. Известно, что и Эр-лан и Чжан-сянь были героями-лучниками так же, как и Стрелок И. По мнению В. Эберхарда, образы Эр-лана, Чжан-сяня и Хоу И родственны. В некоторых поздних мифах именно Стрелок И называется лучником – защитником от демонов. Сама Небесная Собака, как уже говорилось выше, также считалась защитником от демонов. Мифы обо всех этих персонажах имеют южное происхождение.
Как говорилось выше, спутником и помощником Эр-лана была собака (возможно, Небесная), которую Чжан-сянь, в свою очередь, покорял стрельбой из лука. Известно, что нередко в мифах изначально зооморфные персонажи со временем эволюционирует в антропоморфных, при этом их зооморфные черты вытесняются в атрибуты и символы, ездовых животных, животных-спутников или жертвенных животных данного персонажа [Фрэзер, 1983. С. 434–449; Топоров, 1980. С. 444, 448], на это указывали В. Я. Пропп [2002. С. 140]: «Герой и его помощник есть функционально одно лицо. Герой-животное преобразовался в героя плюс животное» и О. М. Фрейденберг [1997. С. 203–204]: «…звериное предшествие бога становится его атрибутивным животным, или его жертвенным животным, или остается в его прозвище». Иначе говоря, божества Эр-лан и Чжан-сянь, возможно, первоначально представлялись в облике собаки.
Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что в мифе о Стрелке И существовал древнейший слой, в котором герой представал в зооморфном облике, а именно в образе собаки. Это зооморфное воплощение героя послужило, вероятно, одним из источников для формирования образа Небесной Собаки в поздней китайской мифологии.
Подводя итог, следует отметить исключительно большой и разнообразный набор функций, присущих в китайской мифологии образу Небесного Пса, что связано, очевидно, с исключительной ролью собаки как первого одомашненного животного. В настоящее время дата наиболее древних костных останков домашней собаки достигает 33 000 (пещера Разбойничья, Горный Алтай) и даже 36 500 л. н. (пещера Гойе, Бельгия) [Ovodov et al., 2011; Кузьмин, 2011]. Ранее считалось, что доместикация имела место около 15 000 л. н., причем, вероятнее всего, в ареале Восточной Азии [Salovainen et al., 2002]; в качестве уточнения предлагался вариант с датой 16 300 л. н. и территорией к югу от р. Янцзы [Pang Jun-Feng et al., 2009].
За многие тысячи лет собака прочно вошла не только в материальную, но и духовную культуру человечества, прочно освоив Небеса; связанные с ней ритуальные комплексы зафиксированы уже в каменном веке (см., например: [Комиссаров, 2001]). Пытаясь объяснить непонятные явления, мифологическое сознание активно использовало образ Небесной Собаки, который относительно полно сохранился в Китае благодаря ранней фиксации народных обычаев. Само по себе это явление носит общетипологический характер, тогда как выявленная устойчивая связь с мифологемой героя-стрелка, сбивающего «сверхлимитные» светила, происходит, скорее всего, из региона Юго-Восточной Азии (в его расширенном историкогеографическом варианте, включающим Южный Китай) (см.: [Деопик, 2011. С. 10–11]). Очевидно, не случайно с этим регионом связана и другая мифологема, в которой исключительную роль играет собака: цикл преданий о пятицветном Паньху.
THE IMAGE OF SKY DOG IN CHINESE MYTHOLOGY