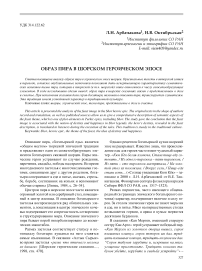Образ пира в шорском героическом эпосе
Автор: Арбачакова Л.Н., Октябрьская И.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XX, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу образа пира в героическом эпосе шорцев. Оригинальные тексты в авторской записи и переводе, а также опубликованные источники позволяют дать исчерпывающую характеристику семантических аспектов темы пира, которая в тюркской (в т.ч. шорской) эпике относится к числу сюжетообразующих элементов. В ходе исследования сделан вывод: образ пира в шорских сказаниях связан с представлением о доле и счастье. При исполнении сказания доля героя-богатыря, явленная в описании пира, транслируется слушателям. Эта традиция имеет устойчивый характер в традиционной культуре.
Шорцы, героический эпос, тема пира, представление о доле и счастье
Короткий адрес: https://sciup.org/14522133
IDR: 14522133 | УДК: 314.122.62
Текст научной статьи Образ пира в шорском героическом эпосе
Описание пира, «богатырской еды» является «общим местом» тюркской эпической традиции и представляет один из сюжетообразующих элементов богатырских сказаний шорцев. Пиры эпические герои устраивают по случаю рождения, наречения, свадьбы, победы над врагом. Во время многодневного застолья с многочисленными гостями, связанными друг с другом родством, богатыри соперничают в еде и питье, скачках, стрельбе, борьбе, состязаниях на копьях и вспоминают обычаи старины [Липец, 1984, с. 26–34].
Центром пира в шорском эпосе часто является огромный золотой или серебряный стол, помещенный в центр жилища. В описании богатырского застолья воспроизводится ряд обязательных элементов, а локализация в центре эпического кочевья подчеркивает его сопричастность сотворению и структурированию мира. Описание эпического пира бывает порой гиперболизировано до космических масштабов.
Размах застолья соответствует статусу и потенциалу богатыря: кушанья на него ставятся самые изысканные. В сказании «Алтын Сырык» во время застолья «разве что птичьего молока не давали» [Шорские героические сказания…, 1998, стк. 470].
Однако рецептов богатырской кухни шорский эпос не раскрывает. Известно лишь, что происхождение еды для героев часто имеет чудесный характер. «Кюн Кёк бегая-хлопоча, Стала пищу-еду готовить. / Из одного пирожка – пять пирожков, / Из пяти – сто пирожков настряпала, / На золотой стол их положила. / Вокруг сели, / Пищу-еду стали есть… («Солнце увидевшая Кюн Кёк» – записано в 2000 г. Л.Н. Арбачаковой от В.Е. Тан-нагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН, стк. 1517–1523).
Размах пиршества, часто имеющего общенародный (в границах эпического богатырского кочевья) характер, подчеркивает величие и силу героя. За столом эпические герои не знают меры ни в еде, ни в питье. Мясо на пиршественных столах возвышается горами, а арака и кумыс меряются десятками бурдюков.
В сказании «Кан Мерген, имеющий старшую сестру Кан Арго» герой устраивает победный пир. «Кан Мерген из золотого дворца вышел, сорок плешивых кликнул, сорок топоров им дал, тридцать плешивых кликнув, тридцать колунов им дал. “Сорок табунов зарубите и, искрошив на мясо, угощение приготовьте. Тридцат ь конских табунов убейте, изрубите и свадьбу устройте”» – закричал (им) Кан Мерген. Плешивые с гору мяса наложили, водки с море налили. В ближней земле живущих родственников криком собирали, в далеких землях живущих родственников, послав посла, собирали. С таскыл - мяса наварили, с море - вина приготовили. Пировали, пировали, - худые пожи-рели, голодные люди насытились. У двери птицы худые зажирели, так что хвосты у них слиплись. У худых людей уши в голову вдавились - так зажирели. Как тайга, мясо лежало, как море, водка была налита. Едой, на которую прямо не могут смотреть глаза, водкой, которая не горчит рот, угощали» [Дыренкова, 1940, с. 141].
Пир продолжается много дней и ночей. В шорских сказаниях при описании участников пира акцентируется не только их сила, но и аппетит. В сказании «Ак Плек» герои так поглощают мясо: «Большие кости у них изо рта вылетают, / Маленькие кости из носа летят!» (записано в 2000 г. Л.Н. Арбачаковой от В.Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН, стк. 663–664).
Физическая мощь не только определяет богатырскую стать, она является мерилом щедрости и соотносится с военным статусом героя. Он способен справиться с огромными объемами еды и питья так же, как он способен расправиться с врагами. «Золотой панцирь-куйак надев, потомок алыпа, / Приплясывая-распевая, вышел. / Подмышкой слева белый чан держит. / В золотую чашу, из которой / И шестьдесят алыпов до дна не выпьют, / Доверху аш-напитка налив, к Ак Плеку идет: /- Эзе, потомок алыпов, сюда пришедший, / Аданмада, на лучшем из коней, - говорит, /- На светло-сивом коне / С серебристой гривой ездящий!/ Аданмада, - говорит, - своим рожденьем /Весь белый свет заполнивший! / Великого хана напиток возьми, выпей, / Потом имя-прозвище назовешь...» («Ак Плек» - записано в 2000 г. Л.Н. Арбачаковой от В.Е. Таннагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН, стк. 277–290).
Обильные многочисленные пиры, чередуясь со сражениями, сопровождают все этапы богатырской биографии. Противопоставление «пир – сражение» отражает противопоставление миропорядка конфликту и нарушению гармонии.
Пир – апофеоз и суть мирной жизни героя. Для кочевого военизированного общества, воспетого эпосом, он имеет глубокий общественный, мировоззренческий и моральный смыслы. Пир героя-правителя и его подданных связан с перераспределением добычи и доли. Он гарантирует стабильность жизни на основе сопричастности судьбе, богатству и счастью богатыря.
Сцена пира, с которой часто начинаются и заканчиваются сказания, – это воссоздание идеального общества в пространственном, культурном и социальном измерении. В стратифицированности пира по «кругам» знатных мужей, женщин, молодежи (по социальным и половозрастным группам), при строгом этикете и традиционности действий, воспроизводятся социальные связи, скрепляющие эпический микрокосм в единстве с макрокосмом. «Семь дней, / Ночной земли не замечая, / Великую свадьбу отмечают. /Девять дней - /Ночной почвы не чувствуя, / Большую свадьбу справляют /, Через девять дней / Великая свадьба завершилась. /Ближним золотые шубы дарят, / Тем, что подальше, / Шёлковые шубы дарят» («Ак Кан» -записано в 2000 г. Л.Н. Арбачаковой от В.Е. Тан-нагашева. Фоноархив сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН, стк. 990–1001).
Пир моделирует ситуацию единения общества как воплощение гармоничной целостности героического мира. По сути, он является ритуалом, утверждающим незыблемость мира и устанавливающим всеобщую социальную гармонию. Часто в его обозначении используется термин «ойын» («праздник/игра»), который обозначает всякую форму неутилитарного действия, приближающегося к сакральному творчеству.
Как ритуальное действо эпический пир состоит из цепи последовательных, закрепленных как по форме, так и в своем чередовании эпизодов, имеющих важное внутреннее содержание. Пир – это праздник. Его описание можно трактовать как некую ритуальную формулу, имеющую прогностический характер. Сцена финального пира воспроизводит состояние всеобщего благоденствия. Согласно одной из типичных формул в сказании «Ак Кан» гости на богатырском пиру «изголодавшиеся, себя насыщали, исхудавшие, себя подкрепляли. Пустые места мясом заполняя, ели; впалые места наваром наполняя, ели» [Дыренкова, 1940, с. 215].
Богатырское пиршество в эпической парадигме становится важнейшим средством вербального моделирования, обеспечивающего благополучие рода. Многие тюркские сказания заканчиваются благопожеланиями: «Много ли, мало ли времени прошло, лежащее на бересте (мясо) истощилось, - весь народ разошелся, дно казанов загремело, - народ разошелся. Люди, которым достались мозговые кости, прославляя возвращаются. «Жизнь ваша пусть длинной будет, дела ваши славными пусть будут!» [Там же, с. 141, 143].
В шорских сказаниях, исполняемых в конце ХХ – начале XXI в., элементы повседневности переплетаются с героической проблематикой, настоящее сливается с прошлым, а события, имевшие место в легендарное время, проецируются на реальность.
В сказании «Кан Мерген, имеющий старшую сестру Кан Арго» говорится: «Нынешнее поворотив - прежним сделав, друг с другом разговаривали; прежнее повернув, в нынешнее обратя - беседовали..» [Там же, с. 85].
Эпос стирает грани времен, прошлого и будущего. Героические события, включая праздничный богатырский пир, являются для исполнителей и слушателей эпоса своеобразным эталоном, с ко- торым соотносится система актуальных этнических норм и практик.
Исполнение эпоса в шорской культуре стало редкостью, однако для сказителя и его слушателей легендарное прошлое имеет абсолютную ценность [Арбачакова, 2003]. Эпос выступает своего рода даром, адресованным от предков – потомкам. Счастье богатырей-ханов делится кайчи между всеми присутствующими. Доля богатыря, явленная в описании пира, транслируется в социокультурную реальность в финале сказания «Алтын Сырык»: «Тем, кто слушал меня сидя, - / Полная доля пусть достанется! / Тем, кто слушал меня лежа, - / Пусть половина доли достанется! [Шорские героические сказания..., 1998, стк. 2451–2461].
Традиционно сказания заканчиваются словами: «Сидя слушающим хорошим /Целый подарок доставил. / Лежа слушающим хорошим / Половину подарка доставил» [Дыренкова, 1940, с. 155].
Список литературы Образ пира в шорском героическом эпосе
- Арбачакова Л.Н. Ролевые функции кайчи в шорских героических сказаниях//Гуманитарные науки в Сибири. -Новосибирск, 2003. -№ 3. -С. 92-95.
- Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. -М; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. -448 с.
- Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. -М: Наука, 1984. -262 с.
- Шорские героические сказания. Кан-Перген. Алтын-Сырык. -М.; Новосибирск: Наука, 1998. -463 с. -(Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 17).