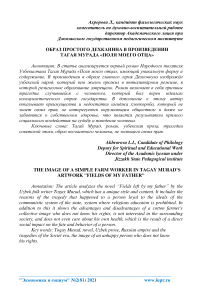Образ простого дехканина в произведении Тагая Мурада "Поля моего отца"
Автор: Ахророва Л.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2-1 (81), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется первый роман Народного писателя Узбекистана Тагая Мурада «Поля моего отца», имеющий уникальную форму и содержание. В произведении в образе главного героя Дехконкула изображён узбекский народ, который всю жизнь прожил в тоталитарном режиме, в которой религиозное образование запрещено. Роман включает в себя причины трагедии, случившейся с человеком, который был верен идеалам коммунистического строя государства. В дополнение к этому автор показывает преимущества и недостатки имиджа хлопкороба, который не знает своих прав, не интересуется окружающим обществом и даже не заботится о собственном здоровье, что является результатом прямого социального воздействия на судьбу и поведение человека.
Тагай мурад, роман, узбекская проза, трагедии советской эпохи, образ несчастного человека, не знающего своих прав
Короткий адрес: https://sciup.org/140260312
IDR: 140260312 | DOI: 10.46566/2225-1545_2021_1_81_510
Текст научной статьи Образ простого дехканина в произведении Тагая Мурада "Поля моего отца"
До Тагая Мурада в узбекской литературе было написано много произведений о повседневных заботах, мировоззрении, мечтах и надеждах узбекских дехкан-хлопкоробов. Хлопковое поле описывалось посредством красивых метафор и художественного слова. Хлопок воспевался в стихах, стихи ложились в песню. Хлопковая тема использовалась для украшения изящных фарфоровых изделий, называемых «пахта гулли», на которых красовался узор хлопкового цветка. Эти ценные изделия преподносились в качестве дара важным гостям, а простой дехканин, который всю жизнь на плечах нёс бремя выращивания хлопка, чай пил в простой пиале без прикрас.
Хлопковое поле стало полем героев, фотографии сборщиц хлопка в атласных платьях и коробочкой пушистого хлопка в височной области вошли в историю. В сезон сбора «белого золота» чрезмерно восхвалялись передовые сборщики из числа привлечённых к страде помощников. Однако, к сожалению, повседневные заботы земледельца, чьи руки были в мозолях от тяжёлого труда, не оценивались объективно.
О создании этого своего произведения Тагай Мурад говорил: «Я вырос с хлопком. С хлопком стал умнее. Грамоте учился с хлопком».
Наши сверстники также страдали от тягот вегетационного периода хлопчатника и «сбора урожая без грамма потерь» наравне с дехканами. Поэтому мы знаем не понаслышке, что значит крылатое выражение «белое золото создают золотые руки», поскольку с детства участвовали жарким летом в прополке хлопковых полей, и нас учили жить с заботой о благе государства. Мы хорошо знаем, что сбор сырца в холодную осеннюю пору, когда приходилось работать на поле с зари до позднего вечера, даже если наши руки были поцарапаны и кровоточили от одеревеневших хлопковых коробочек, – вовсе не романтично, как это обычно рисовали журналисты и писатели той эпохи. Но разве можно забыть своё беспокойное детство, когда вы часто оставались голодным в поле, ели кусок чёрствого хлеба, пили воду из арыка и пропалывали бесконечные ряды хлопчатника тяжёлым кетменём, если даже если вы и не хотите вспоминать прошлое?!
Такие мотивы, как «Переходное Красное Знамя», «Социалистическое соревнование», «Хлопковый штаб», «Хлопковый фронт», признаюсь, придавали нам сил. Учителя, следившие за нами во время хлопковых работ, унижали нас словами «Хлопок - это политика! Как тебе не стыдно, ты же узбек!», «Посмотри на свой рост, чего ты ленишься?!», «Чтоб отсохли твои руки, которыми ты собираешь так мало хлопка!», «Чего стоишь, как вкопанный?! Работай, давай!», «Не чеши языком, а собирай хлопок!», «Давай трудись, не умрёшь!», «Чаю хочешь?! Нет чая! Пей воду из арыка, хаккори!» (хаккори - в смысле позорный)», «И за что только государство вас учит?! За что государство вас кормит?!» и так далее. Многие из тех, кто занимался подобной собственной «политикой» и превратил наше счастливое детство в ад, уже ушли из жизни, но их «политические» окрики остались в нашей памяти.
Главный герой романа - Дехконкул отражается в образе обычного земледельца, на плечи которого писатель возлагает тяжёлую ношу. Поэтому Дехконкул надолго останется в вашей памяти как светлая личность.
Посмотрите на имя героя - Дехконкул, то есть Раб земледелия! Безвольный раб, у которого руки в мозолях! События, изображённые в романе, соседи, с которыми он имел непосредственное общение, позволяют читателю в полной мере понять уникальность образа главного героя, его духовные переживания.
Тагай Мурад сумел показать, что проблемы всей нации не могут быть решены без облегчения труда сельчан, без достойной оплаты его работы и без повышения уровня экономической безопасности.
Обычно включение слишком большого количества деталей в произведение искусства делает его необоснованным источником скучной информации. Но в романе «Поля моего отца» в основе каждого маленького события, полного загадок, лежит огромный жизненный факт. Например, выращивание риса в камышовых зарослях силами пяти или шести корейцев, прибывших из Денау; требования чиновников, утверждавших, что «Узбекистан - не Корея» и необходимо превратить рисовое поле в хлопковое; отправка Зиёда - друга главного героя в поле, где распыляют ядовитый препарат для опадания листьев хлопчатника с умыслом того, что у последнего нет близких, которые могли бы беспокоится о нём; сон ребёнка, который не понимает, что такое смерть, его гибель; лживые утешения директором школы матери разлучённой с единственным сыном словами: «Фронт не может быть без жертв. Кто знает, может, он столкнулся с какой-либо бедой? Вы знаете старые верования^».
Обращение председателя колхоза во время ежедневного собрания к бригадирам, работавшим от рассвета до заката двенадцать месяцев в году: «Мы с вами до сих пор живём на субсидии, товарищи! Давайте избавимся от субсидий, и тогда сможем жить по-человечески!»; надпись на мемориальной доске, гласящая: «Советские люди будут жить при коммунизме в 1980 году»; участие надевшего парадный костюм Дехконкула в качестве передового бригадира в работе республиканской конференции, завершившейся абсурдным решением «чтобы создать новую хлопкоуборочную машину, нужен новый сорт «чиккабел» (в смысле тонкостебельный), чтобы создать новый сорт, нужна новая хлопкоуборочная машина»; его вход в женский туалет от незнания смысла обозначения букв «М» и «Ж»; случаи самосожжения семисот пятидесяти женщин в Узбекистане за последние два года и стихи об этом Ленинградского поэта Михаила Дудина... Десятки глубоко укоренившихся проблем, освещённых в романе, побуждают читателя к серьёзным размышлениям.
Существует правило, согласно которому нужно меньше использовать художественный вымысел, когда пишешь о реальных исторических личностях и событиях. Герои произведения Тагая Мурада - не исторические фигуры, но его заслуга в том, что почти все события, описанные в романе, он без преувеличения изображает образы такими, какие они были в реальной жизни.
Абдулла Каххор говорил в своей статье «От жизненного события к художественному вымыслу»: «Если писательство было бы лишь копированием обыденности, это была бы довольно простая задача. Копирование с жизни всё равно как копирование с книги» 1.
Писатель не только знакомит читателя с большим объёмом информации о судьбах исторических личностей недавнего прошлого, но и ставит перед ним требование иметь соответствующую информацию. В результате в воображении читателя воплощается образ дехканина во всей своей сложности, который почти век выращивает хлопок, но образ жизни никак не улучшился.
О том, как был написан роман, Тагай Мурад сказал: «Я полгода провёл на полях Сурхандарьи... Прочитал десятки учебников по хлопку. Изучил десятки книг о сельском хозяйстве».
Хотя с 4-го класса я участвовала в сборе хлопка, а с 7-го класса работала в колхозе, как читатель, пришла к выводу, что я ничего не знала о хлопководстве. В средней школе нас учили, что рабочие капиталистических стан объявляют забастовку с требованием ввести 8-часовой порядок рабочего дня. Но мы даже не задумывались, почему 14-летние подростки, как мы, которых отправили в поле рано утром, трудились в поте лица по 14 часов. Мы и не подозревали, что на поле будет 70 видов сорных трав, прополку которых нужно проводить с тяжёлым кетменём в руках, да ещё в самую летнюю жару. Хотя осенью мы собирали в среднем по 150–170 килограммов хлопка, нам и в голову не приходило считать, сколько коробочек придётся отделять от хлопка, чтобы собрать такое количество урожая. Теперь мы знаем, что для того, чтобы собрать 60 килограммов сырца, нужно «поклониться» не менее 15 тысячам коробочкам...
«Мы выращиваем продукт, имеющий стратегическое значение», – говорили нам. Но оказалось, что из каждой тонны советского хлопка получают 2 тысячи 420 метров ткани, которой не было в продаже2. Но я не могла самостоятельно подсчитать, почему токсичное химическое вещество бутифос, используемое для опадания листьев хлопчатника, стоило две тысячи пятьдесят рублей за тонну. Ведь эта сумма равна годовой заработной плате колхозника! А сколько наших соотечественников погибло, когда его распыляли прямо на людей, работающих в поле…
Мы все знали, что на дехканина, который днём и ночью работал на полях, смотрели свысока. Так сложилась судьба узбека, родившегося в сельской местности. Когда Дехконкул с порога подавал еду гостям председателя колхоза, он спросил: «Что мне теперь делать, хозяин?» Председатель сказал: «Это всё, идите уже!», не пригласив его к столу. Он даже не думает о том, что его не ценят как труженика. Хотя мы жили в то время, когда роль хлопкоробов в социально-экономической жизни считалось высокой, когда их труд считался почётным, но они, эти бедные люди, не обладающие независимым умом, не имели самоуважения и чувство собственного достоинства...
В романе заключена общечеловеческая боль, которая влияет на чувства читателя, заставляет его волноваться.
Внутренние и внешние монологи героя произведения использовались как важное средство отражения духовного мира дехкан. (Писатель смело пользуется фольклорным стилем, и достичь удобочитаемости в переводе текста довольно сложно, поэтому оставляю как есть). В одних местах его мысли заставляют смеяться, в других - думать: «Теримчилар тераверади -теролмовчилар кучаниб юраверади», «Мен бетимнинг калини - жонимнинг х,узури, дея сур булиб-сур булиб туравердим», «Бир бефаросат кадамим туфайли эллик сум кетар булди. Эллик сум-а, эллик сум!», «Мотоциклдай учкур техникани ичда ютиб буладими? Майдарок бир нима булса экан!» «Айтмайман-а, айтмайман! Бола-бакрамни катор утирFизиб мактандим!» «Мех,нат - мех,натни таги ро^ат, уртоклар!», «Молимиз илла бир кади сут беради, шуни-да мен ичиб олсам, болалар нимани ичади?», «Одам бировни урса - фалон моддага биноан кесилади. Нима учун одам ерни зах,ар билан дорилайди, аммо жавобгарликка тортилмайди? Нима учун одам ерни заҳарлаб хурлайди, аммо жавобгарликка тортилмайди?»^
Смысл приведённых примеров таков: «Сборщики всё равно собирают, кто собирает, всё равно не будет обирать», «Я стоял без участия, словно моя совесть покрыта шагреневой кожей», «Из-за одного необдуманного поступка мне приходится тратить пятьдесят рублей. Целых пятьдесят!», «Как можно скрыть от других такую мощную технику, как мотоцикл? Вещь ведь не маленькая!» «Скажу, а как же! Посажу детей рядом и буду хвастаться», «Труд -удовольствие, приносящее благоденствие, товарищи!», «Наша бурёнка даёт не много молока, если я его выпью, то что будут пить мои дети?», «Если человек кого-то ударил, то будет осуждён по такой-то статье. Но почему не призывают к ответственности того, кто отравляет землю?»_
Подобных приёмов в романе много. Например: «Кусаккурт гул ич-ичидан куригуничайин гул еди. Кусаккурт гул чириб-чириб тукилгунчайин гул еди. Кусаккурт тишлари утмасланиб колгунчайин гул еди». В смысловом переводе данный отрывок звучит так: «Червь несозревшего плода хлопчатника нажирается цветком до тех пор, пока сам не иссохнет. Он ест, пока цветок не засохнет. Ест до тех пор, пока зубы не отупеют».
Все эти слова, сказанные языком Дехконкула, яркими красками отражают особенности его характера, служат выявлению своеобразия его внутреннего мира. Более того, читатель сам должен догадаться о сокрытом смысле сказанной главным персонажем фразы.
События происходят в небольшом хозяйстве Денауского района Сурхандарьинской области, то есть в определённом месте и в определённое время. Когда Дехконкул говорит членам своей бригады, чтобы они завтра выходили на поле пораньше, пока прохладно, колхозники возражают, напоминая ему, что завтра - выходной день. Но он резко обрывает их, утверждая, что хлопчатник не знает выходных, что отдыхать они смогут только тогда, когда выйдут на пенсию: «Пахта бозорни биладими?! Дам оласан, пенсияга чик, пенсияни жарак-жарак олиб, еб ётасан!». Ответ на спорный вопрос, кто прав, а кто нет, мы находим во фразе матери Дехконкула, с горечью сказавшая о том, что она всю жизнь горбилась на хлопковом поле, вышла на пенсию и стала получать лишь 30 рублей: «Ха, пахталаринг киёмат кетсин-а, пахталаринг киёматгина кетсин-а! Мен пахта деб нима булдим? Бир беланги булдим! Улапам уттиз сум пенсия булди».
Кто бы мог подумать, что в те времена колхозник, зарабатывавший три рубля и тридцать семь копеек в день, получал пенсию равную одной трети минимальной заработной платы в 20 рублей!
Грубый бригадир, обращающийся с помощниками как с рабами, угрюмые управляющие, оскорбляющие подчинённых, как им вздумается, относящиеся к учащемуся как к преступнику за то, что не смог выйти на сбор хлопка, словно он виноват в том, что план не выполняется. Также, запугивание табельщика тем, что вычеркнет трёхдневное участие в сборе хлопка, избиение учащихся стеблем хлопчатка с незрелыми плодами только за то, что не выполнена установленная дневная норма сбора урожая... К тому же, есть правдивые истории о том, что питают помощников обедом без мяса, о директоре, который не приходит на поле, о футбольном стадионе школы, превратившийся в отхожее место, о заболевших поносом детей из-за сырости, о вшивости живущих в общежитии школьников, не посещающих баню, - всё это нам знакомо. Потому что мы тоже в детстве жили подобной жизнью.
На всех страницах газет, журналов, в книгах и документальных фильмах есть информация о сборе урожая хлопка, о нём написаны сотни очерков, корреспонденций. Но я до недавнего времени не могла найти ответа на вопрос, почему в то время, как главный герой хлопковой страды - девушка, собирающая урожай в атласном платье с коробочкой раскрывшегося пушистого плода на виске, так превозносят хлопок до небес.
Ответ на вопрос, как можно работать на поле в атласном платье, мы находим в романе Тагая Мурада, когда режиссёр, приехавший снимать документальный фильм о сборе хлопка, заставляет председателя колхоза купить ля двух мастериц ручного сбора сырца «еврейский» атлас, мотивирую это тем, что его фильм будут смотреть не только во всём СССР, но и за рубежом: “Узбек совет хотин-кизлари кийгани кийимга зор экан, демайдими? Дейди! Чет элларда Боймирза Хайит, Вали Хаюмхон, Булокбоши каби буржуа-мафкуравий душманларимиз кадамимизни санаб юрибди! Буржуа-мафкурачиларимиз экранда чит куйлак кийган узбек совет хотин -кизларини курса, нима дейди? Совет Узбекистони оч-юпун, демайдими? Дейди! Ана, узбек совет хотин-кизлари чит куйлак кийиб пахта термокда, демайдими? Дейди!”.
В переводе этот монолог звучит так: «Наши буржуазно-идеологические враги, такие как Боймирза Хаит, Вали Каюмхан, Булокбоши, находящиеся за границей, следят за каждым нашим шагом! Что скажут буржуазные идеологи, если увидят на экране узбекских советских женщин в простых платьях? Разве не скажут, что Советский Узбекистан нищенствует? Скажут! Ещё как скажут!».
«Что сложного в сборе хлопка? Сбор хлопка как сбор цветов! Пушистое «белое золото» словно улыбается нам. Мы бережно его берём и кладём в фартук... Собирать хлопок проще, чем цветы! У цветка есть шипы, о которых необходимо позаботиться. У хлопка нет шипов, поэтому мы берём его в ладони и кладём в фартук, вот и всё! Когда хлопок касается наших ладоней, нам это доставляет душевный покой и удовольствие», – говорит режиссёр сельской женщине, у которой надо было взять интервью. Иронично, но факт: она ни разу в жизни не красила губы.
Фактически, состояние сборщиков было немного лучше, чем у могильщика. Лица потрескались, загорелые, руки все в царапинах, всё тело покрыто пылью, пропитано клеем паутины, одежда постыдная. Если вы не носите рубашку с длинными рукавами, вас до плеч оцарапает хлопчатник, ноги по щиколотки в пыли, невыносимо зудит кожа. Руки, потрескавшиеся от утренней росы, начинают болеть, а иногда гноятся глубокие участки ран.
В третьем этапе сбора урожая, по словам Тагая Мурада, вы очищаете двести пятьдесят чашечек хлопка, чтобы собрать лишь один килограмм драгоценной продукции. Если при сборе четвёртого этапа сбора урожая выпадет снег, то вы будете дрожать от холода, сырость будет пронизывать всё ваше тело, ваши галоши отяжелеют почти на пять килограммов от липкой грязи на грядках. Но вам всё равно нужно будет собрать за день не менее 20 килограммов мокрого хлопка вперемежку с нераскрывшимися плодами хлопчатника, чтобы на грядках не осталось ни одного грамма так называемого «белого золота». Это правда, о которой нигде не написано.
«У нас нет трудностей, у нас всего вдоволь. В наших домах есть газ, радио и телевизор. Каждый вечер мы смотрим фильм в колхозном клубе. У нас есть все для хлопкоробов!»… Я считаю, что подобные фейковые интервью с девушками в то время нравились многим. На самом деле только в доме бригадира стоял старый телевизор со сломанным переключателем каналов.
Как вы считаете, сборщик хлопка, который с раннего утра до позднего вечера работает в поле, придя домой в девять часов вечера, будет ужинать или тут же пойдёт в клуб смотреть кино? Для 25 коллективов бригад в колхозе всего один клуб, который к тому же находится в 20-30 километрах от дома колхозника. В хлопкоуборочный сезон вся социальная деятельность людей, кроме похорон, запрещались, а тех, кто шёл по улице по своим делам, ловили, сажали в машину и отправляли собирать хлопок. Рынки были закрыты, и работали лишь после захода солнца.
Посмотрев на цветном телевизоре председателя колхоза передачу о Московском конкурсе красоты, полюбовавшись на изящных красавиц с белоснежными зубами и тонкой талией, Дехконкул невольно сравнивает их с женой: она носит всего одно платье и для дома, и на работу в поле. А уж краситься и следить за собой, у неё просто нет времени.
Когда жена заболела, он идёт к доктору Расулу. Доктор даёт ему несколько таблеток, и говорит, что если будет принимать их три раза в день, то через три дня выздоровеет. Дехконкул в недоумении спрашивает, а ненужно ли ему самому отсмотреть больную. В ответ доктор утверждает, что это необязательно, поскольку знает, в чём суть болезни женщины: из-за жары, когда организм нуждается в витаминах. В такой день работать в хлопковом поле невозможно. Собачье страданье! Причина болезни именно в этом, говорит доктор.
Дехконкул отвечает, что, мол, у них есть всё, в том числе и витамины. Ведь они выросли на хлопковом поле, слава Аллаху, не умерли. «Посмотрите на моё лицо: кто сказал, что у нас нет витаминов? Их хватить и для жены. Достаточно, чтобы витамины были у главы хозяйства!», – заключает он.
Писатель не реагирует прямо – положительно или отрицательно – на это событие, то есть на разговор Дехконкула с доктором Расулом. В этой детали, сочинённой автором, вы также заметите элементы больших и малых бытовых проблем, не удивитесь простодушию главного героя, а просто улыбнётесь горькой иронией.
Когда его жена сказала «У меня кружится голова, у меня малокровие», он отвечает: «Выпей воды», то вы невольно спросите себя, что это за человек такой?! Он дехканин, мастер хлопководства, говоря словами словам некоторых литературоведов, «феномен», то есть редкий человек.
Но мне так и хочется сказать, что он неудачник, простофиля, которого ни с кем не перепутаешь. Дехканкул вырос под влиянием советской идеологии, далёк от религиозных убеждений, почти не видел воспитания и примера отца, и хотя рос на руках одинокой женщины, любви к жене у него нет, однако нельзя сказать, что он слабоумный. Просто у него нет права выбора. А жить красиво нет никаких возможностей.
Через образ жены Дехконкула автор стремится показать, как «социалистическая революция» повлияла на жизнь сельской женщины, жизнь которой практически не изменилась в системе, предоставившей женщинам равные права с мужчинами. Хотя уже много лет ходят слухи, что они равны, на самом деле никого не беспокоит тот факт, что физически слабым женщинам, не имеющим статуса и равных возможностей, даются слишком много задач и обязанностей, а её супруг даже не задумывался об этом.
Тот факт, что в произведении жизнь Дехконкула и его жены освещена более подробно, чем другие образы, придал этим персонажам уникальное, законченное значение. Подробно и убедительно выражен внешний конфликт, порождающий внутренний конфликт в семье.
То было время, когда система, превратившая жизнь сельской женщины в адское пристанище под лозунгом «Счастье стало биографией узбекских женщин», а правило «Каждый имеет право на хорошую жизнь» было неприменимо к узбекской женщине, живущей в забытом всеми кишлаке.
«Да кто она такая? Она туземка, чурка, а ещё смеет закрывать лицо!» -издевались над женщиной, оскорбляя её словами «чурка», «чучело»... На наш взгляд, столь унизительное отношение началось после Октябрьской революции, которая уравняла права женщин и мужчин, однако насильственно модернизировала Туркестанское общество по Западному образцу. Основной причиной того, что столь щекотливые темы долгое время не упоминались, является слишком тяжёлое бремя клеветы о том, что местные люди «занимаются национализмом».
Узбекская женщина, которая разводит тутовых шелкопрядов и выращивает коконы, жена Дехконкула, хочет носить атласное платье, которое днём с огнём не сыщешь, поскольку не продаётся в магазине. «Пусть принесёт «еврейский» атлас», – говорит она как и все женщины. Она имеет право завидовать, но отрез атласа стоит 200 сумов! Когда Дехконкул, который ни разу в жизни не дарил своей жене даже цветок, пошёл к кассиру хозяйства чтобы получить зарплату и осуществить мечту жены, тот сказал: «Во всем колхозе нет денежного завода, а государство денег не даёт. Деньги будем выдавать во время чеканки», и не выдал ему кровно заработанную зарплату.
Так и не добившись вожделенного атласа, в обиде на весь мир, жена Дехконкула сводит счёты с жизнью самосожжением. Начальство, пытаясь смягчить причину смерти женщины, спрашивает у знавших её людей: «А не было ли в её роду… как бы это сказать… ну, кто тронулся умом?». И, в конце концов выводит свой вердикт: «Словом, Дехконкулова – шизофреничка! На этом всё!». А на возражения мужа они резко отвечают: «Если она не была тронута умом, разве осмелилась бы на самосожжение? Тем более, в такое счастливое время!»
Несмотря на то, что автор романа не наделил эту женщину именем и не пользовался красивыми художественными метафорами для описания её образа, вы можете представить себе образ «безымённой» обычной кишлачной женщины, которая родила детей Дехконкула, и её образ останется в вашей памяти надолго.
Поскольку автор описывает слабость главного героя в отрыве от реальности, поверхностно и равнодушно наблюдая за ситуацией, в которую он попал, мы понимаем, что читатель тоже может попасть в такую ситуацию.
Цель писателя заключалась не только в том, чтобы иронизировать, но и в том, чтобы подчеркнуть, насколько серьёзной и даже трагичной были людские судьбы. Потому что под видом иронии кроется серьёзность.
Ирония обычно проявляется на фоне юмора и сатиры, как дополнение к юмористическим и сатирическим произведениям3. Однако, учитывая, что это наблюдается в произведениях, созданных не в юмористическом или сатирическом жанре, мы видим, что Тагай Мурад умел применять такой приём. Поэтому известный знаток советской литературы Геннадий Поспелов не считает юмор одним из видов пафоса, потому что юмор не выбирает объект, он может быть ориентирован на любой объект в зависимости от настроения субъекта. По этой причине, считает автор, иронию следует рассматривать как один из видов эмоциональности.
Когда автор оценивает главного героя и действительность, он даже отклоняется от этих принципов оценки и смотрит на них под другим углом.
Комическое противоречие в объекте убедительно, потому что оно передано в речи главного героя, а не через установку автора:
– Газ? Бизда газ нима қилади?
– Газимиз бор, ана, Обшир қишлоғи адоғидан қувурда ўтиб ётибди.
– Қувурда ўтиб ётса, қайси бир мамлакатга ўтиб кетаяпти-да.
– Ишқилиб, газинг борми, бор-да. Шу газ бизники-да. Қайси бир мамлакатга кетса-да, ишқилиб, бизнинг газимиз-да.
– Ҳеч бўлмаса, баллон газинг бордир?
– Ўтин бор, таппи бор.
Вот перевод этого отрывка:
– Газ? Разве у нас есть газ?
– У нас есть газ, вон он, проходит по трубам у окраины кишлака Обшир».
– Если он проходит по трубе, значит, поступает в какую либо страну.
– Неважно, главное, газ есть. Этот газ наш. В какую бы страну он ни поступал, всё равно наш газ.
– По крайней мере, у вас есть газовый баллон?
– Есть дрова, есть таппи.
(Таппи значит коровий помёт).
Нам хочется верить, что в вышеприведённом диалоге Дехконкул просто смеётся над чиновниками своими поистине юмористическими взглядами. Так талантливый писатель ещё раз доказал огромную роль языка в художественной интерпретации в романе «Поля моего отца».
По настоянию председателя колхоза главный герой готовится ждать московских кинематографистов, мотивируя тем, что гости приносят довольство. Он приказывает Дехконкулу купить пару килограммов хурмы, поскольку они не растут в Москве, а гости приходят не ради плова, и их надо угостить чем-то необычным. Один килограмм хурмы стоит 3 рублей. Это значит, чтобы купить один килограмм хурмы за 3 рубля, дехканин должен работает с утра до вечера, поскольку получит 3 сума 37 копеек за однодневный труд или собрать 60 килограмм хлопка, что будет равно этой же сумме.
Теперь давайте подсчитаем, чего стоит Дехконкулу четыре больших и сочных граната, купленных им за 10 рублей для московских гостей. За килограмм собранного хлопка выплачивается 5 копеек. Цена двух гранат, составивших один килограмм – 5 рублей. Значит, он должен собрать как минимум 200 килограммов хлопка, но такое количество сырца не в силах собрать за день даже самые удалые сборщики… Вместо того, чтобы подумать о покупке одежды для своих детей, он вынужден принести в жертву гостям своего жирного барана, поскольку знает, что такое узбекское гостеприимство.
Да, узбекский народ терпелив, внимателен и гостеприимен. Нам стыдно, что мы страдаем, мы не жалуемся на свою жизнь, мы не говорим своим близким, даже если наша миска не видит мяса. Когда мы слышим о прибытии гостя, мы тщательно готовимся. Однако, чтобы отразить жизнь простого дехканина на киноленте, сцены снимаются на фоне поставленного у дома Дехконкула автомобиля «Волга», принадлежащего заведующему местным магазином, которого зовут Чори, а во дворе красуется конь спортсмена-наездника Нарбая…
Создатели фильма попросили бригадира сыграть роль, отвечая на их вопросы строго по сценарию. Когда его спросили: «Дехконкул ака, вы владелец этого дома. Простите за неуместный вопрос: в рабочее время вы дома?», в ответ услышали: «Сейчас только полдевятого, рабочий день начнётся через полчаса, а заканчивает в шесть вечера». Тем самым Дехконкулу пришлось прибегнуть ко лжи, что, в прочем, для него это обычное явление, и почему-то его не мучает совесть, когда он явно лжёт.
Писатель умело использует второстепенные образы для полного раскрытия характера своего произведения. К таковым можно отнести сюжет, когда на сбор хлопка привлекают семидесятилетнюю старушку, к тому же заставляют её позировать перед камерой как наглядный пример, ибо она собирает «белое золото». На самом деле женщина то и дело с уныньем говорит, что ей не дают спокойно помереть…
Так же, читатель смеётся над тем, как председатель становится подхалимистым в ожидании прихода ответственной за партийную идеологию Клары Хаджаевны, заставляя колхозников навести порядок на полевом стане, ослов привязать подальше от взора, а лошадь Самада-бобо оставить, поскольку, по словам председателя, «лошади – культурное животное». После отбытия важной гостьи он появляется перед своими подчинёнными «под градусом». Этот эпизод ярко демонстрирует стремление чиновников быть на высоком «политическом, классовом, социальном и профессиональном» идеологическом уровне того времени.
В качестве следующего примера второго плана можно привести портрет директора школы, который известен как ярый любитель пива: мы можем представить его внешний вид, телосложение, выражение лица, манеру одеваться, даже несмотря на то, что об этом в романе нет ни слова. Вот отношение директора к школьникам, вышедшие на сбор хлопка: «Жасадингдан эшак ҳуркади! Ўл-е, шу кунингга-е! Менга қара, қачон нормани бажарасан?! Айт, қачон, қачон, қачон!... Одам деган ўн килоям пахта терадими, а? Ўн кило-я?! Сичқон бир кунда инига йиққан пахта ўн бир кило бўлади!».
В переводе это звучит так: «Ты такой верзила, что осёл испугается! И не стыдно тебе? Лучше бы ты умер! Скажи же, когда норму выполнишь?! Отвечай, когда, когда, когда!... Не стыдно тебе собрать лишь десять килограммов, а? Всего то десять килограммов! Мышь за день способна собрать в своём гнезде одиннадцать килограммов!»
Директор школы, державший детей в страхе, не испытывает ни малейшего сочувствия к своим ученикам, напомнил мне директора нашей школы, которого мы так же боялись. Этот человек остался в нашей памяти как карьерист и непревзойдённый мастер вилять хвостом перед начальством, боящийся потерять свою должность.
Своеобразно ярко и колоритно отразил писатель образ третьего секретаря райкома партии Клары Хаджаевны, получившей образование в Москве. Её воспитывал чересчур чванливый отец. Как и подобает партийному работнику, она всегда опрятно укладывает свою причёску и одевается подобающим образом. Однако её высокое самомнение и чиновничья спесь перед простыми колхозниками не знает границ. В её образе писатель весьма тонко отобразил суть партийных работников, которые ради своих идеологических принципов никого не жалеют и не стремятся понять истинное положение социально уязвимых слоёв населения.
Деконкул старается общаться с ней по-свойски, ласково обратившейся к третьему секретарю райкома: «Омонгинамисиз, Кларабайча?», то есть «Как поживаете, Кларабайча?». Она же, в свою очередь, выражает крайнее недовольство, словами: «Нима-нима? Кларабайча? Какая байча? Мен Клара Ходжаевнаман!» («Что-что? Кларабайча? Какая байча? Я Клара Хаджаевна!»), демонстрируя тем самым своё превосходство над низшим сословием. У читателя невольно появляется презрение к образу секретаря райкома по идеологическим вопросам. Оно и понятно, ибо весь роман пронизан правдивой действительностью, которую мы пережили в недавнем прошлом.
Мне хочется завершить статью словами профессора Казакбоя Йулдашева, «Тагай Мурад был человеком загадочным: он жил в объятиях загадок, писал загадочные произведения, да и умер при загадочных обстоятельствах. Почему так написаны его произведения, до сих пор остаётся загадкой. Чем больше вы думаете об этом, тем больше ваши мысли блуждают в неизвестности. В конце концов, интерпретировать можно только повторяющиеся события, и в них можно найти определённую закономерность» 4.
Список литературы Образ простого дехканина в произведении Тагая Мурада "Поля моего отца"
- Абдулла Қаҳҳор. Асарлар, Олти томлик, 6-том, Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Т. 1971. 350б.
- В.Файзуллоҳ. "Абадият"
- Тоғай Мурод. Танланган асарлар. - Тошкент: "Шарқ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2018. - 702 б.
- Тоғай Мурод. Танланган асарлар. - Тошкент: "Шарқ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2018. - 702 б.
- Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Akademnashr, 2010. - 397 б.