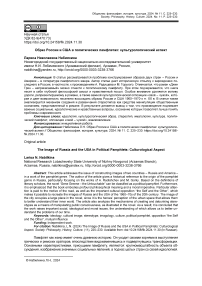Образ России и США в политических памфлетах: культурологический аспект
Автор: Набилкина Л.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема конструирования образов двух стран - России и Америки - в литературе памфлетного жанра. Автор статьи дает историческую отсылку к зарождению последнего в России, в частности, к произведениям А. Радищева и М. Горького. Отмечается, что роман «Джин Грин - неприкасаемый» можно отнести к политическому памфлету. При этом подчеркивается, что книга несет в себе глубокий философский смысл и нравственный посыл. Особое внимание уделяется мотиву дороги, репрезентируемому в романе, а также важной культурологической оппозиции «свой - чужой», которая и дает возможность писателю воссоздать образы России и США 1960-1970-х гг. XX в. В статье также анализируется механизм создания и развенчания стереотипов как средства манипуляции общественным сознанием, представленный в романе. В результате делается вывод о том, что произведение поднимает важные социальные, идеологические и нравственные вопросы, осознание которых позволяет лучше понять проблемы современности.
Идеология, культурологический образ, стереотип, имагология, культура, политический памфлет, оппозиция «свой - чужой», взаимовлияние
Короткий адрес: https://sciup.org/149146683
IDR: 149146683 | УДК: 82-9(470:73) | DOI: 10.24158/fik.2024.11.30
Текст научной статьи Образ России и США в политических памфлетах: культурологический аспект
Нижегородский государственный национально-исследовательский университет имени Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), Арзамас, Россия, ,
Arzamas, Russia, ,
А.М. Гуторов отмечал: «Если злая насмешка носит политический характер, то такое произведение называется памфлетом» (Гуторов, 1984).
Памфлет может выступать в разных жанровых формах – письма (достаточно вспомнить послания Ивана Грозного к князю Курбскому), пародии, рецензии. В XVIII в. развитие получает роман-памфлет. К ярким произведениям этого жанра в России следует отнести травелог А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»1, благодаря которому был создан подлинно имагологиче-ский образ современной России того времени. Анализируя жанр памфлета нельзя не уделить внимание произведению М. Горького «Город Желтого дьявола»2. В центре внимания автора – Нью-Йорк. Писатель создает до предела дегуманизированный образ. «Это город, это Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением»3.
К проблеме взаимодействия и взаимовлияния образов России и Америки обращались многие ученые и исследователи. Среди научных работ следует выделить докторскую диссертацию В.И. Журавлевой «Образ России в общественно-политическом дискурсе США»4, статью А.А. Арустамовой «Образы России и Америки на страницах журнала “Земля Колумба”», значительное место в которой уделяется оппозициям «свое – чужое», «американское – русское – советское» (Арустамова, 2013), работу О.В. Лукиновой «Первый американский кризис и его отражение в памфлетной литературе» (Лукинова, 2010). В исследованиях последних лет также дается комплексная оценка взаимоотношений двух стран. В этой связи можно отметить статью П.В. Холстовой «Международная безопасность как важное направление взаимодействия России и США» (Хол-стова, 2022), а также аналитическую работу А.Н. Гришанова «О природе российско-американских отношений» (Гришанов, 2022).
В разные годы отношения между Россией и США переживали периоды как сдержанного потепления, так и активного неприятия друг друга. Это не могло не отразиться на русской общественной мысли в целом и литературе в частности. 05 марта 1946 г. была произнесена фултон-ская речь У. Черчилля, которая ознаменовала начало холодной войны. Пик противостояния двух держав пришелся на 1960–1970-е гг. В 1952 г. были созданы силы специального назначения армии США для ведения диверсионных действий, названные «зелеными беретами». В 1963 г. британский шпион Ким Филби, который предположительно является прототипом героя романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, бежал в Москву, и особенности разведывательной деятельности за рубежом стали предметом обсуждения широкой общественности. В 1972 г. сразу в двух издательствах – «Молодая гвардия» и «Воениздат» – выходит книга под названием «Джин Грин – неприкасаемый. Карьера агента ЦРУ № 014». Ее автор носит псевдоним Гривадия Горпожакса, под которым «скрываются» Василий Аксенов, Овидий Горчаков и Григорий Поженян. Идея романа зародилась зимой 1968 г. в крымском Коктебеле, где отдыхали три члена Союза писателей. За литературную часть произведения отвечал уже широко известный мастер пера В. Аксенов, общую канву и сюжет романа выстроил разведчик-нелегал, переводчик И. Сталина, а затем Н. Хрущева О. Горчаков, а разработка боевых сцен принадлежала десантнику Черноморского флота Г. Поженяну. Целью книги в то время было развенчать мифы о подвигах «зеленых беретов». Уже в предисловии автор пишет, что «острием своим роман направлен против пентагоновской и прочей агрессивной военщины»5. Вызывает интерес удивительно синкретичный жанр произведения: это и шпионский боевик, и социально-политическая сатира, и военный, а скорее антивоенный роман. Сам автор определяет его как «приключенческий, документальный, детективный, криминальный, политический, пародийный, сатирический, научно-фантастический и, что самое главное, при всем при этом реалистический» роман6. Но при всем этом жанр книги можно определить и как политический памфлет. Основным стилистическим приемом, характерным для этого жанра, является гротеск. В указанном романе все действие как таковое является до предела гиперболизированным. В нем можно наблюдать все пороки общества, как через увеличительное стекло. Подобный прием типичен для творчества В. Аксенова. Н.Л. Лейдерман и М.Н. Ли-повецкий называют его художественный метод «социально-политическим гротеском», «остране-ние через укрупнение (порой доходящее до фантастики) норм советской жизни»7. Именно через эту призму и создаются в романе культурологические образы двух диаметрально противоположных государств – участников холодной войны.
Цель работы – дать анализ образов России и Америки в широком культурологическом контексте, показать их имагологические и кросскультурные составляющие.
Были избраны методы исследования, адекватные поставленной цели: сравнительно-сопоставительный, биографический, метод интертекстуального и лингвокультурологического анализа.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные положения могут быть использованы на занятиях по теории и истории культуры, теории и практике межкультурной коммуникации, спецкурсу «Россия и мир изучаемого языка».
Главный герой романа – сын русских эмигрантов Евгений Гринев, потомок древнего рода князей Разумовских и Куракиных, становится в Америке «элегантным стопроцентным англосаксом» Джином Грином. Триггером к развитию сюжета служит убийство отца Джина – Павла Николаевича. Пытаясь найти убийцу, главный герой вступает в схватку с итальянской мафией, играет на скачках в обществе миллионеров и, находясь в безвыходной ситуации, становится «зеленым беретом» и агентом ЦРУ, поскольку «в этой работе есть все – настоящая мужская романтика, борьба умов, упоительные победы, головокружительные приключения, порой неограниченные деньги, женщины и блестящая жизнь»1. Но, попав в Россию и встретившись с русскими людьми, Джин изменил свои взгляды. «Он нарушил инструкцию. Он не убил этого советского парня, которого встретил на своем смертоносном пути. Этот парень ему просто понравился. Он не мог убить парня, который ему так понравился»2. В результате главный герой проваливает операцию в Москве, его увольняют из армии и дают тюремный срок. Пресловутого американского хеппи-энда не наступает, потому что русский американец Джин Грин, урожденный Евгений Гринев, оказывается чужим и в Америке, и в России.
За этим, казалось бы, незамысловатым сюжетом скрывается глубокий философский смысл, вечный поиск себя и своего места в жизни, столь присущий русскому менталитету. Исследователь творчества В. Аксенова И.В. Попов отмечает: «Лейтмотивом, организующим все произведения Аксенова, является дорога, путешествие, поездка героя. Для Аксенова-писателя весьма важна метафора человеческой жизни как дороги, пути с неожиданными встречами, непредвиденными задержками и непредсказуемыми превращениями»3. Джину Грину также приходится отправиться в путь в поисках убийцы отца, но на самом деле – в поисках самого себя. География его путешествий чрезвычайна широка: Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Сингапур, Сайгон, Москва, Харьков, Полтава, Гайворон. Как справедливо отметил американский культуролог Мак Кеннен, «это поиск самого себя, своей аутентичности в другом месте и времени, в чужой стране, истории, культуре» (Mac Cannen, 1976). Неслучайна в этой связи и отсылка к герою повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Петруше Гриневу тоже приходится оторваться от родных мест, чтобы понять себя, сделать нелегкий выбор в пользу дворянской чести и офицерского долга4. Поэтому эпиграф «Береги честь смолоду» может в полной мере относиться и к герою романа «Джин Грин – неприкасаемый».
На страницах произведения поднимается важная культурологическая проблема «свой – чужой». Несмотря на то, что Джин – эмигрант всего лишь во втором поколении, он выглядит как типичный американец. Его раздражают постоянные воспоминания отца о жизни в царской России, ему чужда ностальгия. Павел Николаевич, напротив, живя в Нью-Йорке, воссоздал для себя привычную обстановку: подписался на советские журналы и газеты «Правда», «Известия», «Огонек», «Вечерняя Москва», покупает русские рождественские и пасхальные открытки, пасхальные яйца, лампадки и ладан в Русском книжном магазине на Ист 4-ой улице, миссис Гринева заказывает продукты в русско-американском гастрономе на Бродвее, по праздникам Гриневы нередко бывают в ресторанах «Медведь» и «Петрушка». Все эти подробности приведены в тексте отнюдь не случайно. Они являются элементами моделирования мира, когда вся Вселенная сужается, по словам великого У. Фолкнера, «до величины почтовой марки»5. Его сын же старается абстрагироваться от своего Отечества, став настоящим англосаксом: занимается водными лыжами и серфингом, покупает одежду в лучших лондонских магазинах и шьет костюмы только у портных на Риджент-стрит, он – «загорелый голубоглазый атлет, комильфо со стальными мускулами»6. Таким образом, отец и сын становятся антиподами, каждый из них проповедует свой образ жизни.
И лишь осознав, что отца больше нет, Джин ощущает тяжесть утраты, и это не только разлука с отцом, но и потеря связи со своей Родиной. «Никогда уже больше он не будет докучать тебе разговорами об этой своей России. Я помню его Россию. Он говорил мне бесконечно о своей России, он навязывал мне свою Россию как рыбий жир. А ты хотел быть американцем, американцем без всего этого прошлого, без комплексов утрат, изгнания, вины и стыда»1. Невербально, на уровне интертекста, звучит идея фронтира. Так же, как пассажиры корабля «Мэйфлауэр» пытались стать «своими» в этой «чужой» стране, русские эмигранты старались приспособиться к иной культуре, но не ассимилироваться, потеряв собственную идентичность. И именно «кодекс чести» и верность традициям позволяли им не утратить свою «русскость» в чуждом мире. Еще совсем недавно для характеристики американской культуры использовалась метафора «плавильный котел», в котором смешиваются все национальности, становясь единым целым. Сейчас более уместно говорить о «блюде с салатом», в котором все ингредиенты, находясь вместе, сосуществуют. Люди стараются сохранить свою «самость», несмотря на настойчивое навязывание пресловутого американского образа жизни. Чувства фронтирмена, оказавшегося заброшенным на другой конец света, испытывает ставший стопроцентным американцем Джин. Он «на всю жизнь запомнил нахлынувшее на него тогда чувство, жуткое и величавое. Вот такой была Америка до Колумба. И такой – местами – она осталась по сей день. Для Джина, выросшего в Бруклине и Манхэттене, это было настоящим откровением: “А отец вышел, закурил, послушал тишину и сказал по-русски: – Бог ты мой! Тихо-то как! Как в русском лесу! И помолчал, попыхивая русской папиросой, купленной в Нью-Йорке, потом добавил задумчиво: – Таким лесом, помнится, ездил я в имение князя Тенишева…”»2. И сейчас Джин задумался над отцовской верностью той старой России и спросил себя: «Ну, а я? Есть ли у меня русская душа в американской обертке?»3.
Позднее подобные чувства будет испытывать сам В. Аксенов во время жизни в США. Писатель преподавал русскую литературу в университете Мэрилэнда, и именно в «чужой» стране ему удалось глубже познать «свою» культуру и познакомить с ней американских студентов. Вот как об этом вспоминает сам В. Аксенов в интервью с говорящим названием «Чувство России»: «Оказалось, что мне надо было уехать, чтобы перечитать, а затем разобрать на семинаре с мерилендскими студентами всего Гоголя и всего Достоевского, или всю гениальную кучу поэтов Серебряного века. Именно в Америке у меня возникло незнакомое прежде ощущение близости к российскому девятнадцатому веку»4.
Для понимания природы русской эмиграции показательна глава из анализируемого нами романа под названием «Русские похороны в Нью-Йорке». Она начинается с описания кладбища, надгробия которого напоминают небоскребы Манхэттена, когда на них смотришь с устья Гудзона. Читатель во всех деталях узнает о похоронных агентствах США с указанием адресов и телефонов и подробным прейскурантом услуг, включая «Усыпальницу-люкс» и тюфяк «Вечный сон». Усиливая гротеск до абсурда, автор показывает, что даже в самые интимные скорбные минуты жизни в нее внедряется навязчивый американский сервис. Для русских же людей важно поддержать близких в трудной ситуации. «Будь я американский доктор, я сам, как ваш врач, рекомендовал бы вашей семье погребальщика и получил бы за это от него комиссионные. Но ведь мы русские люди, Женечка, свои люди, вы для меня все давно родные», – говорит старенький семейный врач из Одессы, который еще в Париже принимал новорожденного Евгения5. Подробно описывая друзей Павла Николаевича, пришедших на похороны, автор резюмирует: «Никто из них не нашел счастья в Новом Свете»6.
После похорон следуют поминки. Но и здесь мы имеем дело с конфликтом культур. Джин отказывается ехать на поминальный обед, считая этот обычай «диким пережитком». Русские эмигранты с большим вниманием относятся к сохранению своих традиций на чужбине и гордятся своей страной. Спустя более чем два десятилетия В. Аксенов напишет в своем травелоге «Круглые сутки нон-стоп»: «Я хочу со всей ответственностью сказать, что большинство, включая и тех, кто и язык-то уже плохо знает, выражало самый искренний интерес к своей исторической родине, гордость нашими успехами и настоящее, идущее от сердца внимание к проблемам общественной жизни, культуры, науки, спорта»7.
Особое место в романе занимает образ города, так как именно восприятие героями урбопро-странства позволяет лучше понять их внутренний мир. «Культура города» является особой категорией, обозначающей созданную людьми искусственную среду обитания, включающую в себя такие компоненты, как традиции, нормы и ценности, образ жизни, менталитет. В центре внимания автора романа – Нью-Йорк и Москва. C первой страницы читатель погружается в атмосферу американского города. «Человек закурил, оглядывая бурлящий жизнью перекресток нью-йорского Монпарнаса – Гринич-Виллэдж. Богемные кварталы Манхэттэна натужно старались показаться столь же живописными, как и в Париже. В тревожных аргоново-зеленых сполохах мельтешила и терлась локтями на узких тротуарах пестрая толпа волосатых, босоногих битников – хозяев Гринич-Вил-лэдж и туристов со всего света1. Разбросанные по всему тексту детали создают дегуманизированное восприятие американского города: Ист-Ривер названа «замурзанной Золушкой Нью-Йорка», на магистральной авеню «не расходятся облака ядовитых выхлопных газов». Подобное описание сходно с изображением Манхэттена американским писателем Джоном Дос Пассосом в его одноименном романе2. Однако русский перевод не передает того динамизма и избыточной суеты, которые находят отражение в оригинальном названии книги – «Manhattan Transfer». Совершенно очевидно, что сходство описания города в обоих произведениях является контактным, а не типологическим. Дос Пассос был очень популярен в Советском Союзе, без сомнения, создатели «Джина Грина» читали его произведения, и впечатления от них нашли свое отражение в романе-памфлете.
Намного более комплиментарным является изображение Москвы. Внимательный взгляд героя замечает «купол ультрамодернистских павильонов» и «старинной церкви с золотистыми звездами по глазури», «деревянные заборчики дач – чудом сохранившиеся островки почти сельской жизни». «Москва казалась ему таинственным, романтическим городом», – так описывает чувства Джина от знакомства с советской столицей автор. Главный герой приезжает в Москву и сталкивается с новой для него реальностью, к которой он оказывается неподготовленным. И здесь возникает столь важная для культурологии проблема возникновения и развенчания социальных стереотипов, о которой впервые заговорил американский социолог и культуролог У. Липпман в своей работе «Общественное мнение». Он определял стереотип как «исторически сложившийся и принятый в данном обществе образец восприятия информации, её фильтрации и интерпретации, основанный на предшествующем социальном опыте» (Липпман, 2004). С одной стороны, некоторые представления о России сложились у Джина по рассказам отца. Но это была дореволюционная страна, которая уже сильно изменилась. Необходимо принимать во внимание идеологические задачи романа, который как мы уже говорили, является пропагандистским политическим памфлетом. Именно подтверждая данный контекст в книге появляется глава «Русская парилка». В ней описывается, как агент ЦРУ Джин Грин внедряется, по его мнению, на вражескую территорию Советской России. Здесь мы встречаемся с наиболее расхожими представлениями о Советском Союзе на Западе: официальные портреты на стенах кабинетов, столы с зеленым сукном, красный уголок политинформации, девушки в красных косынках с лопатами на плечах, стенгазеты с лозунгами: «Позор разбойничьему американскому империализму, злейшему врагу свободолюбивых народов мира!»3. Рацион русских людей, по мнению американцев, составляют: «топленое молоко, подернутое желтой пленкой», «черный хлеб, намазанный маргарином». Читают в СССР Библию старинного издания, прикрывая ее романом «Секретарь обкома»4. Так создается гротескный образ жизни в Советском Союзе. В своей работе У. Липпман подчеркивал, что стереотип основывается не на личном опыте, а на чужом мнении, «в высшей степени заряженным чувствами» (Липпман, 2004). Именно навязанные стереотипы позволяют манипулировать общественным сознанием. Однако ложные убеждения разрушаются при соприкосновении с действительностью. Одним из факторов перерождения Джина Грина в Евгения Гринева является русский язык, который всегда воспринимался им как анахронизм, как принадлежность исчезающей интеллигенции. «И вдруг, вдруг… все переменилось, и мир, “прекрасный и яростный мир” заговорил по-русски, с отцовскими и материнскими интонациями, а английский съежился до минимальных размеров, как проколотый баллон»5.
Таким образом, мы видим, что за жанром памфлета стоят важные идеологические, социальные и нравственные вопросы. Это проблема создания и развенчания стереотипов, которые намеренно культивируются в средствах массовой информации, налицо переосмысление оппозиции «свое – чужое», поднимается вопрос сохранения родного языка и национального культурного наследия в условиях глобализации и «культуры отмены». Представленный анализ образов России и Америки в широком культурологическом контексте позволил показать их имагологические и кросскуль-турные составляющие на основе гротескного романа-памфлета «Джин Грин – неприкасаемый». История развивается по спирали, и на новом витке общественного развития перед нами возникает проблема истинного патриотизма, сохранения своей национальной идентичности в условиях новых вызовов. Изучение текстов русской словесной культуры, таких как произведение Г. Горпожакса, позволяет глубже понять свою ментальность в широком культурологическом контексте.
Список литературы Образ России и США в политических памфлетах: культурологический аспект
- Арустамова А.А. Образы России и Америки на страницах журнала "Земля Колумба" // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. № 3 (23). С. 152-157. EDN: RDCUSJ
- Гришанов А.Н. О природе российско-американских отношений // Международная жизнь. 2022. № 10. С. 15-19.
- Гуторов А.М. "Кризис жанра" и пути его научного преодоления // Вестник Московского университета. Серия: Филология. 1984. № 3. С. 55-57.
- Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 382 с. EDN: OXCHMG
- Лукинова О.В. Первый американский кризис и его отражение в памфлетной литературе // Берегиня. 777. Сова. 2010. № 3 (5). С. 45-51.
- Холстова П.В. Международная безопасность как важное направление взаимодействия России и США // Молодой ученый. 2022. № 21 (416). С. 670-672. EDN: UBYKPF
- Mac Cannen D. Tourist. A New Theory of Leisure Class. N. Y., 1976. 214 р.