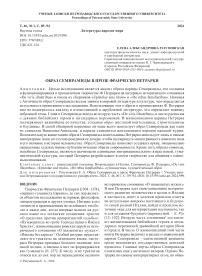Образ Семирамиды в прозе Франческо Петрарки
Автор: Разумовская Е.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературы народов мира
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является анализ образа царицы Семирамиды, его создания и функционирования в прозаическом творчестве Ф. Петрарки на материале исторического сочинения «De viris illustribus» и писем из сборников «Epistolae sine titulo» и «De rebus familiaribus». Начиная с Античности образ Семирамиды весьма значим в мировой литературе и культуре, чем определяется актуальность проведенного исследования. Использование этого образа в произведениях Ф. Петрарки еще не подвергалось анализу в отечественной и зарубежной литературе, что определяет новизну избранной темы. Глава о Семирамиде вошла во вторую часть «De viris illustribus», в число рассказов о деяниях библейских героев и легендарных персонажей. В жизнеописании царицы Петрарка подчеркивает важнейшие ее качества, создавая образ жестокой воительницы, строительницы и блудницы. В своей обширной переписке он чаще всего использует образ Семирамиды как один из символов Вавилона-Авиньона, и царица становится воплощением пороков папской курии. Положительную коннотацию образа Семирамиды-воительницы Петрарка использует лишь в письме императрице Анне по случаю рождения ее дочери, чтобы подчеркнуть многогранность женского пола и его значение в истории человечества. Образ Семирамиды позволяет создавать яркие, эмоционально окрашенные художественно-публицистические образы современности. Кроме того, образы-символы, подобные Семирамиде, являются значимыми единицами интернационального языка новой, гуманистической культуры, который Петрарка разрабатывает в своем творчестве для общения с единомышленниками.
Ренессансный гуманизм, возрождение в италии, семирамида, ф. петрарка, публицистика, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/147242936
IDR: 147242936 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.996
Текст научной статьи Образ Семирамиды в прозе Франческо Петрарки
Творчество Франческо Петрарки (1304–1374), «первого гуманиста Европы», до сих пор является объектом исследования историков, философов, литературоведов и других ученых. Интерес к его личности и произведениям не ослабевает, тем более в наши дни, когда впервые вышли на русском языке его латинские сочинения: трактат «О средствах против превратностей судьбы»1, «Путеводитель ко гробу Господа нашего Иисуса Христа»2, жизнеописания римских царей из исторического сочинения «О знаменитых мужах»3, «Письма без адреса»4. Особый интерес представляют его трактаты на латинском языке, «которым Петрарка придавал большее значение, чем своей поэзии, и именно в них он формировался как гуманист» [6: 257]. К числу этих трактатов относится до сих пор не переведенное целиком историческое сочинение «О знаменитых мужах». В нем Петрарка дает свою концепцию исторического развития человечества в целом и Италии в частности, ищет в далеком прошлом ответы на актуальные вопросы настоящего и будущего своей родной Италии, найдя в прошлом источник «как для интерпретации настоящего, так и для создания будущего (перевод мой. – Е. Р.)» [12: 102]. Вторую часть сочинения5 составляют жизнеописания библейских героев и легендарных персонажей древнейшей истории (Ясон и Геракл). В число 13 жизнеописаний этой части книги Петрарка включил и рассказ о вавилонской царице Семирамиде – единственной женщине среди знаменитых государственных деятелей прошлого. Главные черты образа Семирамиды сложились еще у античных авторов. Однако Петрарка по-своему интерпретирует его и, по обык- новению сближать прошлое и настоящее, использует далее в своих личных и публицистических письмах как материал для сравнения.
Целью данной статьи является анализ образа царицы Семирамиды, его создания и функционирования в прозе Ф. Петрарки на материале исторического сочинения «De viris illustribus» и писем из сборников «Epistolae sine titulo» и «De rebus familiaribus». Образ Семирамиды весьма значим в мировой литературе и культуре, начиная с Античности. И хотя существуют отдельные исследования образов-символов в прозаическом творчестве Петрарки (символов войны, мира и службы [3]; образов Франциска и Августина в «Моей тайне» [4], [7]; образов Рая и Ада в «Африке» [8] и пр.), использование образа Семирамиды еще не подвергалось комплексному рассмотрению в отечественной и зарубежной литературе.
Для анализа была взята проза Ф. Петрарки: вторая часть трактата «О знаменитых мужах» и письма из собраний «Книги [писем] о делах повседневных» и «Письма без адреса», написанные после 1351 года.
ОБРАЗ СЕМИРАМИДЫ В ТРАКТАТЕ Ф. ПЕТРАРКИ «DE VIRIS ILLUSTRIBUS»
Известно, что к работе над второй частью трактата, в которую вошла и глава о Семирамиде, Петрарка приступил лишь после 1351 года (об истории создания трактата см. подробнее: [10]). Небольшая по объему глава о Семирамиде размещена в книге после рассказа о Нине, ее супруге, и перед повествованием об Аврааме. Такое расположение может объясняться, в частности, тем, что христианские писатели относили рождение и жизнь Авраама ко временам правления Нина и Семирамиды6. Петрарка, стремясь оправдать появление в его книге «О знаменитых мужах» (кстати говоря, существует и другой вариант перевода названия трактата: «О знаменитых людях» [1: 7]) единственного женского образа, в первой же фразе характеризует царицу как «женщину с мужской душой» (corpore quidem femineo, sed virili animo)7. К этому же вопросу, почему среди образов знаменитейших мужей прошлого появляется в книге женщина, Петрарка возвращается в конце главы о Семирамиде:
«Тем, что сохранила привычный порядок времени и стала вслед за своим мужем, она, единственная женщина, выделилась из череды столь знаменитых мужей. И поскольку, как я упомянул в Предисловии, я собирался рассказать не о богатых, а о знаменитых, и не столько о правителях, сколько об истинных царях, которых встретишь очень редко, постольку из всех, кто правил над ассирийцами... я ограничился тем, что коснулся лишь одного мужа и его супруги».
Здесь, таким образом, дано сразу несколько причин. Во-первых, глава о Семирамиде вписывается в хронологический порядок изложения, которого автор в основном придерживается и который в «Семирамиде» им подчеркивается [13: 171–172]. Во-вторых, отсылает читателя к «Предисловию» трактата Петрарки, он рисует портреты людей знаменитых и притом истинных царей (illustres... veros reges). В других произведениях Петрарка обосновывает свой интерес именно к правителям и государственным деятелем мыслью из Цицерона, что «для верховного бога... который управляет всем миром, нет ничего более приятного», чем наблюдать за человеческими государствами и теми, кто вершит их судьбы8. То же самое он высказывает и в диалогах «De remediis utriusque fortunae»9.
Для создания образа царицы Семирамиды Петрарка обращается к авторитетным для него античным (Валерий Максим, Юстин) и христианским (Библия) источникам. Очевидно, основным источником для Петрарки послужила «Эпитома сочинения Помпея Трога» Юстина (I: 2)10, сама «Historia Philippica» Помпея Трога, источник сочинения Юстина, во времена Петрарки была давно утеряна:
«Уже в конце IV – начале V в. н. э. Августин и Орозий имели перед глазами только книгу Юстина, которая стала едва ли не самым распространенным пособием по всеобщей истории. Позднее, в Средние века и даже в Новое время, Юстин не потерял прежней популярности» [5: 7].
Петрарка сохраняет в жизнеописании все черты и детали, которые упоминает Юстин. Так, к примеру, говоря о том, что Семирамида после смерти Нина взошла на царский престол, выдав себя за маленького сына Нина, Петрарка, как и Юстин, упоминает сходство Семирамиды и мальчика, особое внимание уделяя подобию роста, лица и голоса матери и сына. Как и Юстин, Петрарка упоминает, что Семирамида, совершив множество достойных деяний, открыла народу обман. Примеры сходства текстов Петрарки и Юстина можно продолжить, однако интересно, на наш взгляд, сравнить расхождения: так, Петрарка, упомянув, что, по мнению некоторых авторов, Вавилон основала Семирамида, принимает сторону более авторитетного для него источника: «некоторые считают, что этот город был основан именно ею, но им противоречит Священное Писание, в котором сказано, что начало Вавилона гораздо древнее».
В этой же главе Петрарка приводит рассказ об усмирении бунта царицей, которого нет у Юстина. Очевидно, что это не единственный его источник; история о бунте в Вавилоне, который Семирамида усмирила, прервав укладку волос, за что в ее честь была возведена статуя, рассказывается в «Достопамятных деяниях и изречениях» Валерия Максима (IX-3, ext. 4)11.
Начиная рассказ о Семирамиде с момента смерти Нина и подчеркивая мужской характер своей героини, Петрарка отмечает сложности, с которыми ей пришлось столкнуться после смерти мужа, оставшись вдовой при несовершеннолетнем сыне, и удивительную хитрость (astus mirabilis), с которой она их преодолела, выдав себя за Ниния, сына Нина. Очевидно, что Петрарка всячески подчеркивает в Семирамиде черты, свойственные знаменитым мужам-правителям. Использование хитрости в обращении с подданными, например, Петрарка упоминает в первой части трактата, в главах о римских царях Ромуле, будто бы общавшемся с Юпитером, и Нуме Пом-пилии, который притворялся, будто советовался с богами, обдумывая государственные вопросы12. Петрарка считает такую хитрость, если она ведет к достижению высших целей (победы, мира в государстве и под.), несомненной добродетелью, отмечая, что царь Нума долго и благодатно правил своим простодушным и доверчивым народом13. Именно в этом ряду рассматривается и уловка Семирамиды при восшествии на престол, поскольку так ей удалось укрепить пошатнувшуюся царскую власть в Ассирии: «укрепила устои сильно пошатнувшейся царской власти».
Характеризуя Семирамиду и ее правление, Петрарка последовательно проводит сопоставление царицы с Нином, человеком весьма деятельным (ardentissimo viro), используя несколько раз лексику с корнем vir- (от лат. vir ‘муж, мужчина’). Так, он говорит о мужском характере царицы (regina virili animo) и о ее мужеподобной внешности: «внешность походит на мужскую» (accessit virilis habitus). Особо отмечает поистине мужской характер правления и ее успехи на военном поприще, позволившие Семирамиде встать выше супруга, отнюдь не миротворца:
«И вот она открыто, уже царица, уже женщина, правила царством с таким же мужеством, с какой ловкостью она его приобрела, и, мало того, распространила силу своего оружия, переходя границы царства, установленные мужем, пусть и очень деятельным».
Центральное место в повествовании занимает легендарный эпизод, связанный с восстанием в Вавилоне, где Семирамида явила подданным пример поистине неженского мужества (illud plus quam feminee virtutis exemplum):
«…когда однажды она, истинно по-женски, была увлечена укладкой волос, ей вдруг сообщили, что вавилоняне взбунтовались, как оно и было; она, с волосами, уложенными только с одной стороны, резко вырвалась из рук служанок и, схватив оружие, поспешила на защиту Вавилона. Столь благородный порыв увенчался заслуженным успехом; мятежный город был возвращен к порядку раньше, чем ее растрепавшиеся кудри».
Отметим, что этот эпизод, рисующий Семирамиду как спасительницу Вавилона, Петрарка использует в своих письмах лишь однажды. В письме к императрице Анне, третьей супруге императора Священной Римской империи Карла IV, написанном по случаю рождения у той дочери14, он приводит эту историю первой в числе других, характеризующих великих воительниц и правительниц древности.
Следуя традиции, сложившейся еще в античной литературе, Петрарка отмечает две черты, важные в образе Семирамиды: свершения в градостроительстве и сексуальную распущенность. Первым, по сути, посвящена лишь одна фраза, в которой упоминаются гордые стены Вавилона (superba moenibus Babilon) и царский дворец. Зато второй, которую Петрарка считает причиной смерти царицы, «славной более оружием, чем целомудрием», отводится целый параграф, где рассказано о смерти Семирамиды от руки ее сына, с которым она вступила в кровосмесительную связь, даны рассуждения о связи любостра-стия со старостью и социальным статусом.
ОБРАЗ СЕМИРАМИДЫ В «EPISTOLAE SINE TITULO»
В «Письмах без адреса»15 Петрарка использует образ Семирамиды в письмах VIII, X, XIII и XVII, написанных в промежутке между концом 1351 (VIII, X) и осенью 1357 года (XVII). В письмах VIII, Х и XVII Семирамида выступает как один из символов древнего ассирийского Вавилона, библейского «города греха», с которым Петрарка сравнивает папский Авиньон своего времени. Давая Авиньону резко отрицательную характеристику и образно называя его Вавилоном [2], [11], он использует имя Семирамиды, чтобы ярче описать порочность нравов авиньонской курии. Интересно, что в этих письмах Петрарка несколько варьирует образ Семирамиды. Так, в VIII и X письмах мы видим, что кроме «носящей колчан»16 Семирамиды среди символов Вавилона и его пороков выступают также «строитель башни» (VIII)17 Нимрод, «властвующий на земле могущественный охотник против Господа, устремившийся к небу надменными башнями» (Х)18, и жестокий Камбиз, основатель Вавилона в Египте (Х). Три этих имени символизируют главные пороки Вавилона-Авиньона: надменность и богоборчество (Нимрод), воинственность (Семирамида) и жестокость (Камбиз).
Иначе образ Семирамиды нарисован в XVII, самом позднем письме этой серии (датируется осенью 1357 года). Петрарка пишет своему другу Франческо Нелли:
«Теперь же ты уже видишь своими глазами... каков этот новый Вавилон... С ним не сравнится ни египетский Вавилон <...> построенный Камбизом, ни тот более древний, Вавилон ассирийский, где царствовала Семирамида... Все, что ты слышал где-либо или читал о вероломстве и хитрости, о жестокости и надменности, о бесстыдстве и разнузданной похоти... все сгребли и свалили в кучу там...»19.
Семирамида, символ ассирийского Вавилона, воплощает здесь все его пороки, включая хитрость, жестокость, надменность и распутство.
Однако в XIII письме (написано после 1 апреля 1352 года и, возможно, адресовано Стефано Колонне, настоятелю церкви в Сент-Омере, Франция20) Семирамида появляется уже в ином контексте. Петрарка с горечью и негодованием рисует порочность папского Авиньона, в частности, описывая под видом «католического Дионисия» папу Климента VI и местную Семирамиду, имевшую на папу Климента сильное влияние:
«...вижу, как обманувшая мужа Семирамида тиарой покрывает чело, искусно отводит глаза присутствующим и, загрязненная нечистыми объятиями, издевается над мужами»21.
Исследователи сходятся на том, что за образом Семирамиды здесь скрывается Сесилия, графиня де Уржель, фаворитка папы Климента VI [2], [14].
Яркий негативный образ Семирамиды-блудницы, склонившей к преступной сексуальной связи собственного сына, мы можем встретить и в «Письмах о делах повседневных» (IX, 4)22.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, во второй части трактата «De viris il-lustribus» (работу над ней писатель начал после 1351 года) Петрарка создает свой образ царицы Семирамиды, в качестве основных используя античные (Валерий Максим, Юстин) и христианские (Священное Писание) источники. Он отмечает важнейшие качества царицы: мужской характер и стиль правления, отразившийся в ее завоевательной внешней политике (жестокая воительница); вклад в создание и укрепление Вавилона (строительница) и, наконец, необычайное распутство (блудница). Также Петрарка активно пользуется созданным образом в других прозаических сочинениях, прежде всего в письмах.
В переписке Петрарка обычно использует образ Семирамиды как один из символов греховного Вавилона; думаем, что подобное смешение двух символов (Семирамиды и Вавилона) и является главным источником отрицательной символики образа у Петрарки. Так, этот образ встречается в четырех письмах из «Писем без адреса» (VIII, X, XIII, XVII), написанных в промежутке между концом 1351 и осенью 1357 года и связанных с обличением папского Авиньона. Именно поэтому в них на первый план выходят отрицательные коннотации образа царицы: жестокая воительница (VIII, X, XVII) и блудница (XIII). Семирамида, таким образом, является воплощением пороков, царящих в Авиньоне. Отсылка к Семирамиде-строительнице, укрепившей Вавилон мощной стеной, встречается лишь в одном из «Писем о делах повседневных» (XII, 11), и вновь в контексте порочного папского Авиньона: Петрарка, говоря об Авиньоне, упоминает «стены Семирамиды»23.
С положительной коннотацией образа Семирамиды-воительницы мы встречаемся в письмах Петрарки лишь однажды. В письме императрице Анне по случаю рождения дочери, прославляя супругу императора Карла IV и женский пол, он использует эпизод о героическом поведении Семирамиды, которая, прервав укладку волос, бросилась усмирять мятежный Вавилон (Fam., ΧΧΙ, 8).
Утверждая в своем творчестве великое назначение поэзии и «право поэта на фантазию и создание особого, идеального мира» [9: 17], Петрарка смело вводит символические образы и метафоры в свои публицистические произведения. Использование хорошо известного с Античности образа Семирамиды в переписке, с одной стороны, позволяет ему сопоставить древность и современность, ища в прошлом ответы на животрепещущие вопросы своего времени; с другой – использовать его при описании реалий и деталей современности как эффективное средство для создания ярких, эмоционально окрашенных художественно-публицистических образов. Наконец, символы, подобные Семирамиде, являются значимыми единицами интернационального языка новой, гуманистической культуры, который Петрарка разрабатывает в своем творчестве для общения с единомышленниками.
Список литературы Образ Семирамиды в прозе Франческо Петрарки
- Бибихин В. В. Слово Петрарки // Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982. С. 7-37.
- Девятайкина Н. И. Письма без адреса Петрарки в историко-культурных контекстах эпохи // Петрарка Ф. Письма без адреса. Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л. В. Собинова, 2022. С. 100-223.
- Девятайкина Н. И. Петрарка о войне, мире, службе: этическая и символическая составляющая (по диалогу «О воинском достоинстве») // Метаморфозы истории. 2021. № 21. С. 7-17.
- Девятайкина Н. И. Мировоззрение Петрарки: этические взгляды. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. 208 с.
- Зельин К. К. Помпей Трог и его произведение «Historiae Philippicae» // Юстин М. Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae / Пер. с лат. А. А. Деконского, М. И. Рижского; Под ред. М. E. Грабарь-Пассек; Коммент. К. В. Вержбицкого, М. М. Холода; Вступ. ст. К. К. Зельина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 5-33.
- Лукьянова Л. М. [Предисловие к переводу] // Новый Гермес. 2022. № 14-2. С. 70-71.
- Матусевич E. В. Ф. Петрарка и Ж. Жерсон: Италия и Франция - противостояние двух культур на рубеже XIV-XV вв. // Вопросы философии. 2005. № 9. С. 107-121.
- Мингалеева Н. Х. Рай и ад в поэме Франческо Петрарки «Африка» // Миф в культуре Возрождения / [Отв. ред. Л. М. Брагина]; Науч. совет по истории мировой культуры. М.: Наука, 2003. С. 5-33.
- Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М.: Наука, 1974. 176 с.
- Kohl B. G. Petrarch's prefaces to De viris illustribus // History and Theory. May, 1974. Vol. 13. P. 132-144. DOI: 10.2307/2504856
- Martinez R. L. The book without a name: Petrarch's open secret (Liber sine nomine) // Petrarch. A critical guide to the complete works. Kirkham V., Maggi A. (Eds.). Chicago; London: University of Chicago Press, 2009. P. 291-300.
- Mazzotta G. The worlds of Petrarch. Durham; London: Duke University Press, 1993. 232 p.
- Rossi L. C. La «Vita di Ercole» del Petrarca // Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri persorsi. Sismel: Edizioni del Galluzzo, 2010. P. 169-187.
- Wilkins E. H. Life of Petrarch. Chicago; London: University of Chicago Press, 1961. 276 p.