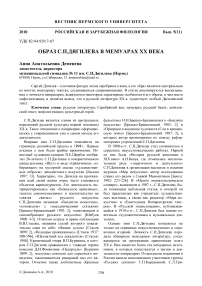Образ С.П. Дягилева в мемуарах XX века
Автор: Деменева Анна Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 5 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
Сергей Дягилев - ключевая фигура эпохи серебряного века, а его образ является центральным во многих мемуарных текстах, создававшихся современниками. В статье анализируются высказывания о личности импресарио, выявляются некоторые характерные особенности его образа, в частности мифологизация, и делается вывод, что в русской литературе XX в. существует особый Дягилевский текст.
Русская литература, cеребряный век; мемуары, русский балет, дягилевский текст, мифологизация, культурный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14728914
IDR: 14728914 | УДК: 82-94:929:7-07
Текст научной статьи Образ С.П. Дягилева в мемуарах XX века
С.П.Дягилев является одним из центральных персонажей русской культуры первой половины XX в. Такое отношение к импресарио сформировалось у современников уже в самом начале его деятельности.
Впервые имя С.П.Дягилева появляется на страницах российской прессы в 1898 г. Первые отклики о нем были крайне ироничными. Известный художник-сатирик П.Е.Щербов изобразил 26-летнего С.П.Дягилева в юмористическом еженедельнике «Шут» в виде «тряпичника», собирающего на мусорной свалке «художественные отбросы» декадентского искусства [Ласкин 1997: 13]. Характерно, что Дягилев на протяжении всей своей жизни очень часто становился объектом карикатуристов. Его деятельность интерпретировалась как «безвкусное кривлянье», «наглое самовосхваление» и посягательство на «святая святых» русского искусства; С.П.Дягилева называли «бандитом искусства», «коноводом» с «наездническими статьями» [Брешко-Брешковский 1903: 2]; «самозванцем и самоизбранцем русского искусства» [Шебуев 1908: 4-5]. Отметим острые и яркие публикации В.В.Стасова, названия статей которого показательны сами по себе: «Нищие духом» [Стасов 1899: 2], «Подворье прокаженных» [Стасов 1937: 588-596], «Шахматный ход декадентов» [Стасов: 1900]. Критический очерк В.П.Буренина, в котором С.П.Дягилев сравнивался с главным героем комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» [Буренин 1899: 2], послужил поводом для серьезного инцидента, закончившегося расправой над его автором. Отметим также любопытные образные фельетоны Н.Н.Брешко-Брешковского «Бандиты искусства» [Брешко-Брешковский 1903: 2] и «Призраки в академии художеств (Сон в крещенскую ночь)» [Брешко-Брешковский 1907: 3], в которых автор иронизировал по поводу реформаторских устремлений С.П.Дягилева.
В 1900-е гг. С.П.Дягилев стал упоминаться в серьезных искусствоведческих работах. Первой из них была «История русской живописи в XIX веке» А.Н.Бенуа, где отмечалась исключительная роль «энергичного и деятельного» С.П.Дягилева в организации выставок и издании журнала «Мир искусства»; автор исследования ставил его рядом с Саввой Мамонтовым [Бенуа: 1902: 223-226]. В «Малом энциклопедическом словаре», вышедшем в 1907 г., С.П.Дягилеву была посвящена небольшая статья, в которой он был представлен как учредитель художественных выставок, а также как редактор «Мира искусства» и «Ежегодника Императорских театров». В «Русской энциклопедии», публиковавшейся в 1910-е гг., С.П.Дягилев был назван известным «художественным и музыкальным деятелем».
Однако имя С.П.Дягилева появляется не только на страницах искусствоведческих и справочных изданий. Личность С.П.Дягилева породила обширную мемуарную литературу, создававшуюся на протяжении практически всего ХХ в. Нам известно более ста мемуарных источников, в которых повествуется о жизни и деятельности импресарио. Отдельными изданиями в России вышли воспоминания участников труппы «Русских сезонов» Т.П.Карсавиной, С.Л.Гри-
горьева, С.М.Лифаря, М.Ф.Ксешинской, Л.Ф.Мя-сина, В.Ф.Нижинского, Б.Ф.Нижинской, Н.А.Ти-хоновой, М.М.Фокина, сподвижников С.П.Дя-гилева по творческой деятельности – А.Н.Бенуа, М.В.Добужинского, Ж.Кокто, С.К.Маковского, Н.Д.Набокова, А.П.Остроумовой-Лебедевой, С.С.Прокофьева, Ф.Пуленка, И.Ф.Стравинского, современников – С.М.Волконского, А.Белого, А.А.Блока, М.А.Кузмина, М.Серт, М.К.Те-нишевой, а также воспоминания Е.В.Дягилевой. К сожалению, еще не переведены и не изданы на русском языке воспоминания Л.Соколовой «Танцуя для Дягилева» [Sokolova 1960], Н.Д.Набокова «Старые друзья и новая музыка» [Nabokov 1951].
В 1982 г. вышло в свет двухтомное издание «Сергей Дягилев и русское искусство» [см. Сергей Дягилев и русское искусство 1982], составители которого проделали гигантскую работу по изысканию и систематизации материалов, раскрывающих образ С.П.Дягилева: его статей, интервью, писем, воспоминаний современников – А.Н.Бенуа, М.В.Нестерова, И.Э.Грабаря, Н.К.Рериха, Т.П.Карсавиной, М.Ф.Ларионова, А.В.Луначарского.
В то же время вся эта обширная мемуарная литература практически не рассматривалась российским литературоведением. В качестве исключения могут быть названы культурологические работы В.М.Гаевского [Гаевский 1989: 159-166], Г.Ю.Стернина [Стернин 1989: 122-127], С.В.Голынца [Голынец 1990: 142-145; Голынец 1995: 114-115], А.С.Ласкина [Ласкин 1994; Ласкин 2002], в которых освещались различные аспекты творческой биографии импресарио, основанные на мемуарных источниках.
Произведения, в которых появляется образ Дягилева, рассматриваются нами как единый текст. Понятие «текст» в данном случае используется в широком значении – так, как оно употреблялось Ю.М.Лотманом [Лотман 1996] или поструктуралистами [Барт 1989], т. е. как часть целого, обладающую определенной внутренней структурой и связанную с множеством других текстов (литературных», «культурных», «исторических»), которые переплетаются и перекрещиваются друг с другом [Ильин 1999: 97-105].
При таком понимании любой текст оказывается точкой пересечения множества связей, объединяя в единое пространство автора и читателя, литературу и иные формы культуры. По сути дела в такой интерпретации текст оказывается органично включенным в культуру «сверхтекстом», представляющим «совокупность высказываний», ограниченных «темпорально и локально», объединенных «содержательно и ситуативно», характеризующихся «цельной модальной установкой» и «достаточно определенными позициями адресанта и адресата» [Купина, Битен-ская 2004: 215].
В отечественной гуманитарной науке на протяжении последних десятилетий распространилось практика употребления термина «текст» для обозначения ряда семантически связанных между собой феноменов культуры, имеющих, в частности, и литературное воплощение. Такие сверхтексты могут быть объединены определенным пространственным локусом, и тогда их называют «городскими текстами» (например, «Петербургский текст» [Лотман 1992; Топоров 1995], «Венецианский текст» [Меднис 1999], «Пермский текст» [Абашев 2000]). Помимо этого особо может быть выделена группа сверхтекстов, объединенных личностью известного деятеля культуры, т.е. «именные», «персональные» сверхтексты (например, «Пушкинский текст» [Гаспаров 1996]).
Любой такой сверхтекст представляет собой сложную разнородную целостность, объединяемую некой смысловой общностью, единым центральным фокусирующим объектом, наличием определенных внетекстовых реалий и смыслов, системой природных (или культурных) образов и деталей. Это качество сверхтекста (применительно к «Петербургскому тексту») В.Н.Топоров характеризует следующим образом: «Обозначение “цельно-единство” создает столь сильное энергетическое поле, что все “множественноразличное”, “пестрое” индивидуально-оценочное вовлекается в это поле, захватывается им и как бы пресуществляется в нем в плоть и дух единого текста. <…> Именно в силу этого “субъективность” целого поразительным образом обеспечивает … “объективность” частного» [Топоров 1995: 261].
В дальнейшем мы будем говорить о «Дягилевском тексте» русской литературы, включающем как совокупность мемуарных произведений, так и художественные тексты с «дягилевскими аллюзиями», а также их интерпретации читателями. «Дягилевский текст» утверждает исключительную важность «голоса» героя и его личности для русской и мировой культуры XX в.
Определяющим фактором для выделения в культуре такого «текста» является не только широкая представленность имени героя в различных письменных источниках, но и, главное, цельность этого представления. «Дягилевский текст» объединяется не только изображением в нем личности импресарио, но и воспроизведенной в нем широкой картиной культурной жизни первой половины XX в., размышлениями о закономерностях и парадоксах развития русской культуры в контексте культуры Европы. В ин- терпретациях современников Дягилев оказывается центром мира русской культуры XX в., выразителем особых внутренних потребностей русской культуры.
Дягилевский персональный текст организован иначе, чем Пушкинский персональный текст. В его «ядре», естественно, находится фигура Дягилева, который в большинстве произведений представлен как «центр», как демиург окружающего его культурного мира. Однако основной корпус произведений, представленных в «Дягилевском тексте», – мемуары (в «Пушкинском тексте» мемуарная литература представляет не «ядро», а периферию).
Устойчивыми признаками мемуаров как жанра документальной литературы являются факто-графичность, событийность, ретроспективность, непосредственность авторских суждений, живописность, документальность. Эстетическую значимость этой литературы определяют организующие ее факты, документы, т.е. нечто по сути своей противоположное вымыслу [Местергази 2007: 15]. Эстетическая интерпретация мемуарного текста (мемуарного произведения или тематического цикла мемуаров, информации о фактической реальности, изображенной в мемуарах) на основе неязыковых семиотических констант позволяет раскрыть особый тип художественной образности, свойственный мемуарам. Именно события жизни (в силу их причастности к истории и культуре, способности передавать небуквальные смыслы) становятся письменным текстом.
Е.Г.Местергази предлагает рассматривать мемуары как первичный жанр документальной литературы, способный быть реализованным в нескольких вариантах: «бытовом», «литературном», а также как «литература вымысла» [Мес-тергази 2008: 62]. К числу мемуаров Дягилевского текста, функционирующих как «литература вымысла», можно отнести, например, воспоминания С.Лифаря [Лифарь 1993] и В.Нижинского [Нижинский 2000]. Основная часть мемуаров о Дягилеве может быть отнесена к «литературным», при этом следует отметить, что их «художественность» основывается в первую очередь на достоверности изложенных в них фактов.
«Дягилевский текст» содержит многочисленные документальные материалы, а также разнообразные интерпретации его личности в мемуарной и художественной литературе. По сути «Дягилевский текст» представляет особую знаковую реальность русской культуры, что объясняется публичным характером деятельности его основных фигурантов, их постоянным участием в гастролях, сценичностью большинства их поступков, жизнью в эмиграции.
В «Дягилевском тексте» представлены суждения практически о каждом реализованном С.П.Дягилевым художественном проекте, что делало события его жизни эстетически значимыми, превращая их в часть «священной истории» поколения людей конца XIX – начала XX вв. «Дягилевский текст» отразил восприятие современниками как личности самого Сергея Дягилева, так и его культурной деятельности, в большой степени воздействовавших на развитие всего мирового искусства на протяжении первой трети ХХ в., – прежде всего, театральной антрепризы «Русские сезоны».
Мемуары, посвященные личности С.Дягилева, существенно отличались от большинства других мемуарных текстов. Если в «обычных» (традиционных) мемуарах частная жизнь человека предстает в виде «текста» – «текст как жизнь»), то в мемуарах «Дягилевского текста» сама жизнь описываемого в них персонажа построена по законам художественного текста («жизнь как художественный текст»), в котором есть свой сюжет, а участники событий разыгрывают определенные предписанные им театральные роли.
Большинство авторов мемуаров, включаемых в «Дягилевский текст», не являлось профессиональными литераторами (исключение – документальные произведения А.Блока, В.Брюсова, А.Белого, в которых упоминается Дягилев). В то же время все они были выдающимися подвижниками искусства – артистами дягилевской труппы, художниками, композиторами, театральными деятелями. Наверное, их мемуары не являлись выдающимися художественными произведениями своей эпохи, однако важность рассматриваемой в них эстетической проблематики, направленность на решение актуальных художественных вопросов; воспроизведение в них органичного ощущения художественного целого эпохи включали их в контекст культуры первой половины XX в.
Помимо этого следует иметь в виду, что авторы мемуаров были людьми самобытными, художественно одаренными (большинство из них – люди творческих профессий), и поэтому в процессе передачи восприятия деятельности С.П.Дягилева они раскрывали свое глубоко личностное, индивидуальное видение художественных процессов эпохи, используя при этом яркие образы, символы, аллегории, метафоры. Так, Ф.Пуленк называл его «магом» и «чародеем», В.Серов – «лучезарным солнцем», А.Бенуа – «Геркулесом» и «Петром Великим». Для В.Нижинского Дягилев – это «орел, душивший маленьких птичек», для А.Волынского – «Желтый Дьявол на аренах европейских стран», для
А.Белого – «Нерон в черном смокинге над пламенеющим Римом, а может быть – камер-лакей, закрывающий дверь во дворец…» [Белый 1990: 217-218]. И.Стравинский отмечал, что «…написал Польку как карикатуру на Дягилева, представлявшегося в виде циркового укротителя, щелкающего бичом» [Стравинский 1971: 153].
«Дягилевский текст» не завершен во времени. Предмет его изображения – период культурной деятельности Дягилева, 1900-1930-е гг., но по своей проблематике он открыт в культурное пространство всего XX в. (многие из произведений создавались или публиковались после того, как прошло несколько десятилетий после смерти импресарио!). В мемуарных текстах был представлен новый тип культурного и литературнотворческого сознания, в котором субъект автора (говорящего, пишущего) оказывался менее важен, чем субъект личности героя – С.П.Дягилева. Во многих мемуарах мы видим продолжение когда-то начатого, но так и не завершенного диалога (спора, полемики) автора текста с С.Дягилевым, находящегося вне конкретного исторического времени (точнее, во временном контексте незавершенных художественных исканий первой половины XX в.). Это всегда «реагирующий» на какие-то художественные факты текст – но в то же время текст, не замкнутый только на проблемы искусства (театр, балет, живопись), – а открытый ко всей художественной культуре, требующий от читателя-собеседника «услышанности» и ответа, текст, органично включающий в себя разные формы скрытой (полускрытой, «рассеянной») чужой речи.
За узнаваемой событийной атрибутикой образа С.П.Дягилева возникает мощный энергетический поток авторских интерпретаций мемуаристов, убедительных натуральностью изображаемого, но нередко прямо противоречащих друг другу. И в этом диалоге вариативных интерпретаций узнаваемого фактического материала – особая увлекающая художественная сила мемуарного образа. Личность С.Дягилева становится своеобразным средством «проверки» на принадлежность автора и читателя к культуре XX в.
В то же время следует отметить, что «Дягилевский текст» широко открыт в культурное пространство эпохи. В нем воссоздана образность сценических постановок, частная жизнь участников антрепризы, показаны города и страны, в которых протекала жизнь импресарио, театры, музеи, рестораны, гостиницы… Представленное в них художественное пространство не было стеснено никакими определенными географическими или государственными граница- ми: оно постоянно расширялось, достигая новых культурных рубежей и приобщаясь к обновленным эстетическим ценностям, становясь при этом мультикультурным («кросскультурным»).
Семантическую разнородность оценочных суждений о жизни С.П.Дягилева ярко характеризует высказывание С.К.Маковского: «…Фигура Дягилева – сноба и сибарита, использующего чужие таланты для собственного обогащения» и «Дягилева – энтузиаста, отдавшего всего себя с какой-то языческой страстностью искусству – красоте, “улыбке Божества”» [Маковский 2000: 130]. В размышлениях о личности Дягилева, как правило, отражаются эпохальные споры о проблеме соотношения в культуре разных «начал»: эстетического и этического, национального и глобального, буржуазного и аристократического, прагматического и идеалистического.
В первую очередь отметим, что в портрете С.П.Дягилева акцентируется внешняя необычность его облика: большая голова, седая прядь волос, дендизм. Подчеркиваются свойственные герою атрибуты характерного для того времени театрального «перформенса»: цилиндр, трость, монокль, «безупречно парадный костюм». Эти знаки могут иногда стать поводом для рассказываемых анекдотических историй: так, например, цилиндр Дягилева в процессе словесного поединка с оппонентом оказывается надет последнему буквально до плеч [Маковский 2000: 123]. Практически всеми мемуаристами отмечаются тяга героя к эффектной «позе» и необычному «жесту», постоянное наличие на его лице «маски». В мемуарах А.Белого подчеркивается неустойчивость и постоянная изменчивость образа персонажа «с изящностью мимы меняющего свои роли» [Белый 1990: 127-128].
Одна из важнейших особенностей «Дягилевского текста» – полярность высказанных мемуаристами оценок образа главного персонажа. Для иллюстрации приведем цитату из дневников Вацлава Нижинского: «Дягилев красит свои волосы, чтобы не быть старым. У Дягилева волосы белые, Дягилев покупает черные помады и натирает их… Дягилев имеет два передних зуба фальшивых. Я это заметил, ибо когда он разнервничается, то трогает их языком. Они шевелятся, и я их вижу. Мне Дягилев напоминает старуху злую, когда он шевелит двумя передними зубами. У Дягилева передний клок накрашен белыми красками. Дягилев хочет, чтобы его заметили. Его клок пожелтел, ибо он купил скверную белую краску» [Нижинский 2000: 143]. Совершенно иной оказывается оценка в мемуарах Тамары Карсавиной: «…Впервые я увидела его <…> через сцену прошел молодой человек, спустился в партер и сел в кресло первых рядов: ни один режиссер не мог бы придумать более эффектного выхода! Безлюдный театр, словно на мгновение смеживший усталые веки, пустынная и полутемная сцена, поднятый занавес – все это вызывало чувство щемящей тоски, прилив сентиментальности – неизлечимого недуга у нас, выросших в атмосфере искусственных чувств театральных подмостков… Я видела, как он внимательно осматривает сцену. Разочарование или усталость?.. И зачем он вообще пришел сюда? Ведь на сцене ничего не происходило!» [Карсавина 1971: 170-171].
Существенной чертой характеристики С.П.Дягилева, демонстрирующей восприятие его личности современниками, является движение : это могут быть как «событийные» характеристики («…неутомимо колесил он по России, охотясь за холстами великих и малых живописцев» [Маковский 2000: 126]), так и «концептуальные» («Дягилев был чужд спячке жизни», он «был искренним рыцарем эволюции и красоты» [Рерих 1982: 2, 326]. Как отмечает Т.Карсавина, «постоянный поиск новых проявлений красоты абсолютно соответствовал его темпераменту; едва достигнув цели, он, влекомый своим беспокойным духом, устремлялся вперед, к новой цели» [Карсавина 1971: 229]; Дягилев – это «человек, гонимый вихрем новаторских вожделений своей публики, наподобие Франчески и Паоло, вечно уносимых вперед вихрем пламени в дантовском аду? Ведь в ушах Дягилева раздается, как у Агасфера, постоянный приказ: «Иди!» И он идет, покидая часто красивую и плодотворную местность, и пускается в погоню за мреющими миражами» [Луначарский 1982: 2, 217].
Художественным знаком – предвестником физической смерти С.П.Дягилева – становится метафора «потери пути », которая появляется, например, в мемуарах С.Маковского и И.Стравинского: «Следовало идти быстро, но рок бежал еще быстрее: стареющий Дягилев не переставал искать свою дорогу. Теперь, я думаю, он не был больше уверен в своем пути» [Маковский 2000: 134].
Важной особенностью образа Дягилева является то, что современники часто наделяли его особой магической силой. По свидетельству Т.Карсавиной, «все, его знавшие, свидетельствуют о почти колдовском очаровании его личности» [Карсавина 1982: 40]. Пуленк писал по этому поводу: «Несравненный Дягилев был магом и чародеем» [Пуленк 1977: 37]. Блок подчеркивал в личности Дягилева сверхъестественное начало: «Цинизм Дягилева и его сила… Есть в нем что-то страшное, он ходит «не один» [Блок 1989: 191]. Более того, в мемуарах приводится легенда о появлении Дягилева в качестве привидения:
молодая балерина, репетировавшая в театральной зале, где некогда «царил» Дягилев, пугается «белой тени», перемещающейся по коридору, заполняя собой весь проход; ее друзья предполагают, что это мог быть «дух Дягилева, который при жизни часто посещал эту комнату; именно в ней однажды произошел случай, приведший его в страшный гнев, он стучал тростью по полу так, что оттуда выбежала группа испуганных крыс» [Haskell 1935: 135].
В повествованиях о событиях жизни С.П.Дягилева также нередко используются семейные предания . В яркой (в художественном отношении) книге С.Лифаря «Дягилев и с Дягилевым» сообщается о том, что в С.П.Дягилеве через его мать, урожденную Евреинову, текла «петровская кровь» [Лифарь 2005]. В мемуарах Е.В.Дягилевой, создающих собирательный образ семьи, рождение С.Дягилева связывается с историей нескольких поколений предков, честно и ярко проживших свои жизни. Е.В.Дягилева сообщает, что первое упоминание в исторических источниках о роде Дягилевых связано с именем Дмитрия Васильевича Дягилева, который был образованным человеком и талантливым музыкантом, художником, коллекционером, библиофилом и литератором. Его сын, Павел Дмитриевич Дягилев, был известен как благотворитель, пожертвовавший огромные суммы на строительство в г. Перми нескольких храмов и оперного театра. Для Е.В.Дягилевой символичным представляется родство Дягилевых с Сульменевыми, Литке и другими знатными фамилиями. Многочисленные свидетельства о духовном подвижничестве предков С.П.Дягилева создают насыщенный культурный контекст, в котором склонность к героическому подвижничеству определяется как семейная, родовая черта. Многие мемуаристы отмечают влияние на становление героя Е.В.Дягилевой, которая рано заменила ему родную мать. В монографии А.Хаскелла цитируются воспоминания В.Нувеля о том, что именно Е.В.Дягилева заставила Сергея поверить в себя и навсегда забыть фразу «Я не могу»: «Это – фраза, которую Вы должны забыть; кто хочет, тот всегда может» [Haskell 1935: 11].
Размышления о необходимости сознательной активности человека, о демиургических возможностях личности были актуальны для культуры рубежа XIX и XX вв. В повествовании о делах («деяниях») С.Дягилева ярко запечатлеваются культурно-ценностные ожидания современников от реализации личностного потенциала жизне-устроительства.
Событийный ряд биографии С.Дягилева последовательно прослеживается через семантику мотивов «дела», «поединка» и «подвига». Такой набор мотивов был в целом необычен для русской литературы (по крайней мере, в свете традиции культуры XIX в., в которой герой-созерцатель или герой-мыслитель превалировал над «человеком дела»). По сути образ Дягилева, представленный в мемуарах, был полемически направлен против типичных для предшествующих периодов истории русской литературы образов «лишнего человека» и «маленького человека» – персонажей, которые обычно не проявляли себя в какой бы то ни было практической деятельности.
Эстетизация биографического материала, изложенного современниками, усиливается при изображении «противоборческих» устремлений С.П.Дягилева (отстаивание им собственных художественных идеалов, полемика с В.В.Стасовым и т. п.). Событийный ряд с указанной семантикой мемуаристами обычно интерпретируется как поединок за новые художественные идеалы.
В ряде мемуаров стремление импресарио к активному действию рассматривается как деяние во имя национальной культуры, как подвиг : «Чудесен творческий подвиг Дягилева, открывший миру новые земли Красоты, вечно не умирающее его дело, ибо оно вошло в плоть и в кровь всего современного искусства и через него будет передано будущему искусству и вечности. Дягилев – вечен, Дягилев – чудо» [Лифарь 1993: 401], «Только тот, кто хорошо знает Париж, может оценить силу влияния на него Русского балета Дягилева. Завоевать Париж трудно. Удерживать влияние на протяжении двадцати сезонов – подвиг» [Григорьев 1993: 190]; «Мне он представляется младенцем Геркулесом, творящим подвиги, еще не успев выйти из колыбели» [Карсавина 1971: 227].
Образ Дягилева в сознании современников нередко воплощал их представления о сверхчеловеке (Ф.Ницше): мемуаристы поэтизировали его «неукротимую волю» [Карсавина 1971: 217], являющуюся «высшим проявлением человека»: «У Дягилева была своя специальность, это была именно его воля, его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек “начинал хотеть”, всякое дело “начинало становиться”, “делаться”» [Бенуа 1982: 642]; «он подавлял своего оппонента не логикой аргументов, а давлением своей воли и невероятным упорством» [Карсавина 1971: 231].
Характерной чертой образа С.Дягилева в мемуарных произведениях является отделение его имени от образа: «Чтить его память лишь как создателя труппы Русского балета означало бы признать лишь часть этого человека. Он был сгустком эпохи, замечательной по жизненности и быстрой зрелости своих артистов. Он был существом и обобщением своего времени. Он вобрал в себя и представил своим современникам средоточие художественных ценностей, как бы отраженных в призме» [Карсавина 1982: 304].
Одной из определяющих черт «Дягилевского текста» является мифологизация образа импресарио. В «Дягилевском тексте» создается новое вненациональное предание – миф, основанный на личном художественном и бытовом опыте автора и потенциального читателя, вырастающий на основе свободного вымысла.
Мифологизация, выражающаяся в художественных и публицистических текстах, – одна из важнейших особенностей культуры XX в. Под мифологизацией мы в данном случае понимаем обретение «устойчивыми» образами в процессе их художественного функционирования таких интерпретаций (авторских и читательских), согласно которым этот образ занимает в культуре исключительное место и становится главным объясняющим фактором последующего культурного развития нации или всего человечества. Процесс мифологизации определенных культурных объектов (образов, сюжетов) тесно связан с протекающим параллельно процессом демифи-логизации , в соответствии с которым «объект», получивший «мифологический» статус, теряет его и развенчивается.
Процесс мифологизации объясняется исторической логикой развития культуры: «Реализм XIX в. предельно сконцентрировал внимание на окружающей действительности и на ее социально-исторической интерпретации, во многом определившей и художественную структуру реалистических произведений, особенно романов. В XX в. на волне ремифологизации, наступившей в силу разочарования в позитивистских ценностях, что особенно становится заметно в литературе модернизма, решительно порывающей с традициями XIX в., происходит отказ от социологизма и историзма и выход за социально-исторические рамки ради выявления вечных начал человеческой жизни и мысли» [Мелетинский1998: 423].
Возможность мифологизации образов напрямую связана с природой «сверхтекста», предполагающего включение в произведение многочисленных культурных текстов. В «Петербургском тексте» мифологизируется образ Петербурга, в «Венецианском тексте» – образ Венеции, в «Пушкинском тексте» – образ Пушкина. Сам факт возникновения и существования определенного сверхтекста является доказательством огромной значимости воспроизведенных в нем культурных реалий и, следовательно, его потенциальной «способности» к мифологизации. Миф моделирует будущий мир и включает в себя оп- ределенные «нормативные» модели культуры, модели поведения, которые помогают объяснить существующий миропорядок. Личность С.Дягилева, устанавливающего своей деятельностью законы культурной жизни XX в., оказывается соответствующей природе мифа. В этом плане его фигура может быть сопоставлена с фигурой А.Пушкина (также мифологизированной): они оба своей деятельностью способствовали разрушению культуры предшествующей эпохи и возникновению «новой» культуры. Эпоха Дягилева, как и эпоха Пушкина, оказывалась «началом всех начал» русской культуры, соотнесенным с «первичным» сакральным временем.
Мифологизация образа С.Дягилева проявляется в ряде аспектов. Эпохальные противоречия, выразившиеся в текстах мемуаров, снимаются в соответствии с законами мифологического мышления в феномене амбивалентности (отмеченное нами выше наделение образа импресарио противоположными характеристиками). Внешний облик импресарио интерпретируется мемуаристами в категориях «профанного» и «сакрального». Место Дягилева в системе мемуарных образов также может быть соотнесено со структурой мифа. Например, образы Е.В.Дягилевой и ее «двойника» – няни Дуни – типологически сопоставимы не только с пушкинской няней, но и с мифологическим образом Космической матери, оберегающей героя и символизирующей благосклонную судьбу.
Образ самого С.Дягилева в мемуарах по своей структуре и функциям может быть сближен с типом « культурного героя » в мифе. Подобно тому, как культурный герой в архаических мифологических текстах добывает или впервые создает для людей различные предметы культуры, учит их ремеслам и искусствам, вводит в определенную социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы и праздники, Дягилев, борясь со стихийными хаотическими социальными и природными силами, преодолевая все препятствия, устраивает выставки, издает журнал, создает театральные коллективы, предвосхищая будущее и закрепляя в культурном создании эстетические ценности XX в.
«Дягилевский текст» русской культуры создает сложный и неоднозначный образ импресарио. В образе С.Дягилева аристократизм парадоксально объединяется с прагматизмом, трагическое – с комическим, глобальное – с национальным, новаторские искания – со следованием традициям. Все эти противоречия, выразившиеся в мемуарном образе С.Дягилева, были противоречиями, характеризующими всю русскую (и даже шире – всю европейскую) культуру XX в. В этом заключалось значение «Дягилевского текста» для русской культуры: фактом своего художественного бытия он как бы подводил итоги завершающейся культурной эпохе и обнажал новые актуальные проблемы «мира искусства».
Список литературы Образ С.П. Дягилева в мемуарах XX века
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 404 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступит. ст. Г.К.Косикова. М.: Прогресс, 1989. 615 с.
- Белый А. Начало века. М.: Худож. лит., 1990. 687 с.
- Бенуа А.Н. Воспоминания//Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2 т./сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 220-285.
- Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. СПб.: Изд. товарищества «Знание», 1902. 167 с.
- Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М.: Наука, 1993. 711 с.
- Блок А.А. Дневник. М.: Сов. Россия, 1989. 510 с.
- Брешко-Брешковский Н.Н. Бандиты искусства//Петербургская газета. 1903. № 302. С. 2.
- Брешко-Брешковский Н.Н. Призраки в академии художеств (Сон в крещенскую ночь): [Фельетон]//Биржевые ведомости. 1907. 6 янв. (№ 9683) (Веч. вып.). С. 2.
- Буренин В.П. Критические очерки//Новое время. 1899. 16 апр. (№ 8310). С. 2.
- Волконский С.М. Мои воспоминания: в 2-х т.. М.: Искусство, 1992. Т. 2. 383 с.
- Гаевский В.М. Сергей Дягилев -черты личности//Сергей Дягилев и художественная культура XIX-XX веков: материалы науч. конф., 17-19 апреля 1987 г., г. Пермь. Пермь: Кн. изд-во, 1989. С. 159-166.
- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение. 1996. 351 с.
- Голынец С.В. Практический идеалист//Наше наследие. 1990. № 1. С. 142-145.
- Голынец С.В. Сергей Дягилев и новый тип художественного деятеля ХХ века//Культурное достояние Урала и Сибири: Тез. докл. Всемир. конф., посвящ. 50-летию ЮНЕСКО. Екатеринбург, 1995. С. 114-115.
- Григорьев С.Л. Балет Дягилева. 1909-1929. М.: АРТ СТД РФ, 1993. 382 с.
- Добужинский М.В. Воспоминания. М.: Наука, 1987. 477 с.
- Дягилева Е.В. Семейная запись о Дягилевых. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 287 с.
- Ильин И.П. Поструктурализм//Современное зарубежное литературоведение: концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М.: Интрада-ИНИОН, 1999. С. 97-105.
- Карсавина Т.П. Воспоминания//Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2 т./сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 300-304.
- Карсавина Т.П. Театральная улица. Л.: Искусство, 1971. 247 с.
- Кокто Ж. Портреты-воспоминания: эссе. М.: Известия, 1985. 159 с.
- Кузмин М.А. Дневник, 1905-1907. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. 606 с.
- Купина Н.А., Битенская Г.В. Сверхтекст и его разновидности//Человек -текст -культура: коллективная монография/под ред. Н.А.Купиной, Т.В.Матвеевой. Екатеринбург, 2004. С. 214-233.
- Кшесинская М.Ф. Воспоминания/подгот. текста, коммент. и подбор ил. И.Клягиной; предисл. В.Гаевского. М.: Артист. Режиссер. Театр; Ред.-изд. комплекс «Культура», 1992. 413 с.
- Ласкин А.С. Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты: докум. роман. СПб.: Ассоц. «Новая лит.»; Альм. «Петрополь», 1994. 286 с.
- Ласкин А.С. Отражения//В поисках Дягилева: выставка-книга/автор-сост. А.С.Ласкин. СПб.: Санкт-Петербургская Академия культуры; Всероссийский музей А.С.Пушкина; Российская Национальная библиотека, 1997. С. 69.
- Ласкин А.С. Русский период деятельности С.П.Дягилева: Формирование новаторских художественных принципов/СПб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб., 2002. 236 с.
- Лифарь С.М. Дягилев. М.: Композитор, 1993. 350 с.
- Лифарь С.М. Дягилев и с Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. 588 с.
- Лифарь С.М. Мемуары Икара. М.: Искусство, 1995. 358 с.
- Лифарь С.М. С Дягилевым: монография. СПб.: Композитор, 1994. 266 с.
- Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города//Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 9-21.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста//Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб: Искусство-СПБ, 1996. С. 18-131.
- Луначарский А.В. «Развлекатель» позолоченной толпы//Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2-х т./сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 215-220.
- Маковский С.К. Портреты современников. На Парнасе «Серебряного века». Художественная критика. Стихи. М.: Аграф, 2000. 445 c.
- Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1999. 391 с.
- Местергази Е.Г. Литература нон-фикшн/non-fiction: Экспериментальная энциклопедия. Русская версия. М.: Совпадение, 2007. 325 с.
- Местергази Е.Г. Художественная словесность и реальность (документальное начало в отечественной литературе ХХ века): дисс. … докт. филол. наук. М., 2008. 246 с.
- Мелетинский Е.М. Миф и XX век//Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания/отв. ред. Е.С.Новик. М.: РГГУ. 1998. С. 419-426.
- Мясин Л.Ф. Моя жизнь в балете/пер. с англ.; предисл. Е.Я.Суриц; коммент. Е.Яковлевой. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. 366 с.
- Набоков Н.Д. Багаж. Мемуары русского космополита. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2003. 368 с.
- Нижинская Б.Ф. Ранние воспоминания: в 2 ч.. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. Ч. 2. 319 с.
- Нижинский В.Ф. Чувство. Тетради. М.: Вагриус, 2000. 253 с.
- Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. 1 -3. М.: Центрополиграф, 2003. Т. 1-2. 588 с. Т. 2. 461 с.
- Прокофьев С.С. Материалы. Документы. Воспоминания. 2-е изд. М.: Музгиз, 1961. 707 с.
- Пуленк Ф. Я и мои друзья. Л.: Музыка, 1977. 159 с.
- Рерих Н.К. Венок Дягилеву//Сергей Дягилев и русское искусство: ст., открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2-х т./сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 325-329.
- Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2-х т./сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 1. 493 с. Т. 2. 575 с.
- Серт М. Пожирательница гениев. М.: Альпина нон-фикшн; Глагол, 2008. 312 с.
- Стасов В.В. Избранные сочинения: в 2 т.. М.; Л.: Искусство, 1937. Т. 1. 862 с.
- Стасов В.В. Нищие духом//Новости и биржевая газета. 1899. 5 янв. (№ 5). С. 2.
- Стасов В.В. Шахматный ход декадентов//Новости и биржевая газета. 1900. 25 нояб. (№ 327). С. 2.
- Стернин Г.Ю. Дягилев глазами оппонентов//Сергей Дягилев и художественная культура XIX-XX веков: материалы науч. конф., 17-19 апреля 1987 г., г. Пермь. Пермь: Кн. изд-во, 1989. С.122-127.
- Стравинский И.Ф. Диалоги. Л.: Музыка, 1971. 414 с.
- Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. Л.: Искусство [Ленингр. отд-ние], 1991. 287 с.
- Тихонова Н.А. Девушка в синем: [воспоминания рус. балерины]/подгот. текста, послесл. и коммент. В. Чистяковой. М.: Артист. Режиссер. Театр; Ред.-изд. комплекс «Культура», 1992. 366 с.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему)//Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 259-367.
- Топоров В.Н. Петербургские тексты и Петербургские мифы (Заметки из серии)//Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 368-399.
- Фокин М.М. Против течения. 2-е изд. Л.: Искусство, 1981. 510 с.
- Шебуев Н.Г. Серж Годунов//Обозрение театров. 1908. 22-23 мая (№ 409/410). С. 4-5.
- Sokolova L. Dancing for Diaghilev/The Memoirs of Lydia Sokolova edited by Buckle Richard. London: John Murray, 1960. 287 p.
- Haskell A.L.D. Diaghileff: His artistic and private life. London: V.Gollancz, 1935. 359 p.
- Nabokov N. Old Friends and New Music. Boston, 1951. 358 p.