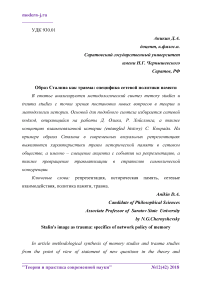Образ Сталина как травма: специфика сетевой политики памяти
Автор: Аникин Д.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется методологический синтез memory studies и trauma studies с точки зрения постановки новых вопросов в теории и методологии истории. Основой для подобного синтеза избирается сетевой подход, опирающийся на работы Д. Олика, Р. Хойслинга, а также концепцию взаимосвязанной истории (entangled history) С. Конрада. На примере образа Сталина в современных визуальных репрезентациях выявляются характеристики травм исторической памяти в сетевом обществе, а именно - смещение акцента с события на репрезентацию, а также превращение травматизации в стратегию символической конкуренции.
Репрезентация, историческая память, сетевые взаимодействия, политика памяти, травма
Короткий адрес: https://sciup.org/140272701
IDR: 140272701
Текст научной статьи Образ Сталина как травма: специфика сетевой политики памяти
Образ Сталина является одним из наиболее неоднозначных и противоречивых элементов мемориальной культуры современного российского общества. На широкий спектр совершенных им (или приписываемых ему) действий накладывается более всеобъемлющая расколотость российского пространства памяти, непроговоренность и непроясненность отношения современных поколений к тем социальным и политическим катаклизмам, которые заполнили собой большую часть XX века. Можно согласиться с мнением А.А. Линченко и А.В. Иванова, что «положительные и негативные оценки Сталина не могут избежать отсылок к его эпохе (индустриализация, коллективизация, массовые репрессии, победа в Великой Отечественной войне), однозначная и полная демифологизация которой представляется сомнительной» [5, c. 93]. Иначе говоря, фигура Сталина оказывается вписана в самые различные исторические процессы, поэтому различные формы ее мифологизации отражают тенденции современного исторического сознания, пытающегося выстроить непротиворечивую картину прошлого.
Следует оговориться, что специфика сетевого подхода к исторической памяти заключается в принципиальном отказе от возможности мыслить картину прошлого как гомогенную культуру коллективных воспоминаний. Уже в 2000-ые годы С. Конрад выработал исследовательскую программу entangled history, согласно которой смысл исторического анализа должен заключаться не в стремлении создать тотальное описание какого-либо явления, а в выявлении внутренних и внешних связей, обеспечивающих его относительную устойчивость и автономность относительно других феноменов.[4, c. 91-108] В любом обществе (а российское общество в этом смысле представляет собой гетерогенное образование) отсутствует единая культура памяти, но существует множество коммеморативных практик, создающих путем взаимного наложения многоуровневую структуру отношения к прошлому, опосредующую сложность актуального политического ландшафта. Поэтому и сведение всех форм репрезентации прошлого к доминирующим дискурсам является определенной исследовательской условностью, которая, однако, позволяет перейти от анализа конкретного образа к определению его места в общей структуре воспоминаний.[1, c. 110-120]
Позднесоветский дискурс исторической памяти строился на стремлении констатировать и осознать допущенные в прошлом ошибки и нарушения, итогом чего должно было стать продолжение того пути развития, который был намечен предшествующими поколениями советских граждан. Такое специфическое сочетание критического отношения к прошлому с осознанием исторической преемственности и способствовало удалению образа Сталина на периферию общественного внимания. В большей степени его фигура рассматривалась как основной фактор искажения естественного исторического процесса, хотя, разумеется, героизация и опубличивание памяти о Великой Отечественной войне в годы «застоя» не могли не сыграть свою роль - Сталин значительной частью общества воспринимался если не как источник победы, то как непременный участник данного события. Но «перестройка» как раз подразумевала не только обновление политической конфигурации общества, но и модернизацию исторического дискурса, в рамках которого Сталин естественным образом приобретал характеристики «неправильного» политического лидера.
Постсоветский исторический дискурс строился совершенно в иных условиях и на принципиально других основаниях. Речь уже шла не о сохранении советской идентичности путем отсеивания негативных аспектов прошлого как «тупиков» исторического развития, а о строительстве новой идентичности, переформатировании прежней конфигурации исторического развития, при которой ведущее место уделялось советской истории. В такой ситуации образ Сталина оказался избавлен от однозначно негативных коннотаций как виновника допущенных ошибок и искажений, а ценностный дискомфорт в результате распада Советского Союза, символически воспринимаемого как поражение страны и народа, вызвал естественную реакцию ностальгии по тем временам, когда подобное крушение было немыслимо. Таким образом, возвращение образа Сталина в перечень значимых для россиян исторических деятелей оказалось обусловлено не сознательными процессами переосмысления его роли в истории страны или появлением новых исторических данных, а моральным ресентиментом, вызванным катастрофическим изменением социально-экономических условий. Но если в 90-ые годы и в начале 2000-х историческая реабилитация вождя оставалась уделом маргинальных общественных групп, то, начиная с 2008 года, согласно данным Левада-центра, негативное восприятие сменяется на нейтральное, а уже с 2014 года происходит перевес в сторону позитивного восприятия роли Сталина в истории России. [8] Показательно, что динамика подобных изменений коррелирует не только с конкурсом «Имя
России», где Сталин, неожиданно для многих экспертов, долгое время занимал одну из лидирующих позиций, так и с первым военным конфликтом в постсоветской истории, который можно рассматривать в контексте возвращения противостояния с Западом (война с Грузией в 2008 году).
На протяжении последующих лет популярность образа вождя оставалась на стабильном уровне, демонстрируя определенные всплески в условиях актуализации внешнеполитических конфронтаций. Очередное социологическое исследование, проведенное в апреле 2018 года, продемонстрировало сохранение указанных тенденций, при этом главной заслугой Сталина респонденты по-прежнему считают победу в Великой Отечественной войне (64%).
Популярность образа Сталина, проявившаяся даже в возникновении сетевых мемов, дает возможность целому ряду исследователей говорить о ре-сталинизации как важной тенденции современной политики памяти. Корректнее было бы сказать, что фигура Сталина переосмысливается в контексте новых социокультурных реалий, а если говорить проще - Сталин, представленный в сетевом фольклоре, наделяется новыми характеристиками, сильно отличаясь не только от реального исторического деятеля, но и от того образа, который был создан в эпоху застоя. Вместе с тем, именно такая трансформация образа является существенным основанием для травматизации образа Сталина, но уже не в контексте трагического осмысления связываемых с его фигурой репрессии и судебных процессов, а в контексте несоответствия создаваемого образа привычным стереотипам исторического сознания. Сталин в данном случае становится, скорее, не эпицентром, а лишь проявлением общих тенденций исторической памяти в России, что особенно хорошо продемонстрировал английский фильм 2017 года «Смерть Сталина».
Стоит напомнить, что сюжет фильма вращается вокруг смерти последних дней жизни Сталина и последовавших затем политических коллизий, причем действующими персонажами фильма оказались ближайшие сподвижники вождя - реальные исторические деятели. Парадоксальным образом, сам Сталин в картине практически отсутствует, но выступает тем невидимым стержнем, на который нанизывается сюжетная линия. Хотя 17 января 2018 года фильм получил прокатное удостоверение в России, но уже 23 января, за 2 дня до начала проката, оно было отозвано ввиду обращения деятелей культуры, которые подписали коллективное обращение к министру культуры В.Р. Мединскому. Основанием для подобного обращения было обвинение в фальсификации представленных в фильме фактов.
Интересный аспект реакции был задан смешением публичного и частного дискурсов исторической памяти, поскольку в числе деятелей, обратившихся с требованием о запрете проката картины, присутствовали родственники и близкие сразу нескольких персонажей фильма, в частности, дочь маршала Г.К. Жукова. [2] Таким образом, фигура Сталина в рамках данной визуальной репрезентации оказалась тем эпицентром, вокруг которого сложился целый ряд исторических дискурсов - политический, общественный, частный. Что характерно, эти дискурсы оказались существующими не параллельно, а в тесном переплетении друг с другом, обозначая высокую степень консолидации и травматической реакции на появление фильма. Если представители общественности и частные лица оказались инициаторами обращения к государственным структурам, то государство, в свою очередь, продемонстрировало оперативную реакцию на полученный запрос, обойдя, тем самым, скользкую тему политической цензуры.
Еще одним фактом, свидетельствующим о том, что травматизация образа Сталина является, во многом, непредвиденным следствием концентрации государственной политики памяти вокруг Великой Отечественной войны и тех исторических персонажей, которые с ней соотносятся в общественном сознании, выступает опрос, проведенный компанией «Дождь».[3] Респондентов попросили оценить кадры из фильма «Смерть Сталина», показав на самом деле несколько фрагментов из фильма Н.С. Михалкова «Утомленные солнцем», причем реакция опрошенных оказалась предсказуемо негативной. Таким образом, травматичным оказалось не само содержание фильма, а исключительно помещение его в контекст символического противостояния с Западом, в результате чего и произошла актуализация негативных коннотаций.
В качестве итога можно констатировать, что совмещение trauma studies и memory studies выступает благодатным исследовательским полем, предоставляющим возможности философского и историкометодологического анализа, объектом которого выступает уже не само травмирующее событие, а условия и траектория процесса травматизации. На примере конкретного кейса с репрезентацией Сталина в современном кинематографе можно констатировать, что травматизация в условиях сетевого общества становится распространенной стратегией символической конкуренции. Причем коллективная травма все в большей степени отстраняется от личной причастности к травмирующим событиям, постепенно становясь реакцией на сомнение или развенчание тех исторических фактов, которые являются основополагающими для коллективной идентичности. Если первоначально понятие «травматизация» применялось для характеристики психологических процессов, протекающих в сознании очевидцев или участников трагических событий, то распространение сетевых технологий привело к тому, что травматизация становится все более и более опосредованной.
Эмоциональная яркость и суггестивный эффект визуальных репрезентаций (не только кинематографа и фотографий, но и роликов на интернет-каналах, мемов и других форм визуализации прошлого) способствует тому, что травматичным становится сам факт несоответствия вновь появляющихся образов тем формам осмысления прошлого, которые являются привычными. Разумеется, несоответствие между имеющейся картиной прошлого и теми фактами, которые в нее не вписываются, является нормальным явлением как для научного, так и для обыденного сознания. Наглядность образов прошлого делает максимально прозрачной грань между получаемой информацией и эмоциональным ее усвоением, по сути, происходит интериоризация исторического опыта, в результате чего события близкого или отдаленного прошлого (но не относящиеся к персональному существованию индивида) воспринимаются как им как существенные и необходимые для его идентификации. Соответственно, критика этих фактов или ирония по поводу них символически маркируются не просто как разногласия, но как угроза коллективной идентичности. Травматизация образа Сталина, отчетливо проявившейся в ситуации с фильмом, свидетельствует о более общих характеристиках политики памяти в современном российском обществе:
-
1. Сохраняющаяся важность прошлого в качестве основания для коллективной идентичности, проявляющаяся в гипертрофированном внимании и сакрализации определенных исторических событий, символически маркируемых в позитивном ключе. По сути, выстраивается определенная «гражданская религия» (в определении Р. Белла), которая требует подчеркнуто серьезного отношения к предмету коллективной веры, что вступает в логическое противоречие со спецификой современных
-
2. Сакрализованное прошлое рассматривается как объект возможного нападения, что накладывается на политическую и экономическую конфронтацию с западным миром. Поэтому любые репрезентации прошлого оцениваются не только в соответствии с представлением об их истинности/ложности, но и в контексте авторов высказываний.
-
3. Из сакрализации прошлого также естественным образом вырастает стремление к совпадению точек зрения, когда прошлое превращается из предмета общественного консенсуса и публичных договоренностей в абсолютное основание коллективной идентичности, не подвергаемое сомнению. Именно поэтому государство выступает в качестве своеобразного медиатора общественной дискуссии, который берет на себя ответственность за выстраивание консолидированной позиции.
сетевых коммуникаций, транслируемой и в сферу производства визуального контента, а именно – нарочитой отстраненностью и ироничностью.
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 18-011-00658 и гранта Президента РФ МК-2596.2017.6
Список литературы Образ Сталина как травма: специфика сетевой политики памяти
- Головашина О.В. Проблематика памяти и развитие «Memory studies» // Философские традиции и современность. 2012. № 2. С. 110-120.
- Деятели культуры обратились в министерство с просьбой провести экспертизу фильма «Смерть Сталина» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/deyateli_kultury_i_politiki_obratilis_v_minkultury_s_prosboy_provesti_ekspertizu_filma_smert_stalina/ (дата обращения: 20.08.2018)
- "Дождь" показал москвичам кадры из фильма Никиты Михалкова под видом "Смерти Сталина" [Электронный ресурс]. URL: https://newsland.com/user/4297710442/content/dozhd-pokazal-moskvicham-kadry-iz-filma-nikity-mikhalkova-pod-vidom-smerti-stalina/6183005 (дата обращения: 20.08.2018)
- Конрад С. Что такое глобальная история? М.: Новое литературное обозрение, 2018. 312 С.
- Линченко А.А., Иванов А.В. Что нам делать с мифами о Сталине? // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С. 91-99.