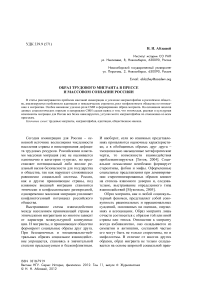Образ трудового мигранта в прессе и массовом сознании россиян
Автор: Аблажей Наталья Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблема массовой иммиграции и усиление мигрантофобии в российском обществе, анализируются особенности адаптации и поведенческие стратегии, рост конфликтности общества по отношению к мигрантам. Особое внимание уделено роли СМИ в формировании образа мигранта. На основании анализа данных социологических опросов и материалов СМИ сделан вывод о том, что этническая, расовая и культурная компоненты миграции для России все более нивелируются, уступая место мигрантофобии по отношению ко всем приезжим.
Трудовые мигранты, мигрантофобия, адаптация, общественное мнение
Короткий адрес: https://sciup.org/14737853
IDR: 14737853 | УДК: 339.9
Текст научной статьи Образ трудового мигранта в прессе и массовом сознании россиян
Сегодня иммиграция для России – основной источник восполнения численности населения страны и нивелирования дефицита трудовых ресурсов. Российскими властями массовая миграция уже не оценивается однозначно в категории «угроза», но представляет потенциальный либо вполне реальный вызов безопасности для государства и общества, так как нарушает сложившееся равновесие социальной системы. Россия, как и другие принимающие страны, под влиянием внешней миграции становится этнически и конфессионально разнородной, одновременно массовая миграция усиливает конфликтогенный потенциал российского общества.
Выстраивание схемы взаимодействия между населением принимающей страны и этническими мигрантами во многом зависит от характера межкультурной коммуникации. И мигранты, и принимающее общество формируют социальные образы друг друга. При безоценочных и эмоционально-нейтральных образах социальное взаимодействие упрощается, становясь в значительной степени предсказуемым и бесконфликтным.
И наоборот, если во взаимных представлениях проявляются оценочные характеристики, а в обобщенных образах друг друга – эмоционально насыщенные метафорические черты, то возможности взаимодействия проблематизируются [Титов, 2004]. Социальное осмысление неизбежно формирует стереотипы, фобии и мифы. Оформленные социальные представления при доминировании стереотипизированных образов влияют на степень взаимного доверия и, следовательно, выстраивание определенного типа взаимодействий [Мукомоль, 2005].
Образ мигранта, как и любой социокультурный феномен, представляет собой совокупность рациональных и иррациональных суждений, основанных на оценках, ощущениях и ассоциациях. Образ мигранта лишь отчасти соотносится с образом той или иной страны или этноса. Отношение к мигранту всегда амбивалентно, оно складывается из симпатии и антипатии, составной частью его могут быть не только стереотипы, но и мифологемы. В отличие от многих других образов, образ мигранта не только складывается на основе широкой социальной прак-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 6: Журналистика © Н. Н. Аблажей, 2012
тики и непосредственного наблюдения, но и сознательно формируется в процессе функционирования так называемого общественного мнения, именно поэтому этот образ ориентирован на самую широкую аудиторию. Как и любые стереотипы и фобии, устойчивые представления о миграции и мигрантах достаточно архаичны и статичны, а их изменение возможно лишь при условии трансформации отношения принимающего общества к мигрантам.
В рамках проблемного поля «миграции и мигранты» можно выделить несколько взаимосвязанных дискурсов: масс-медий-ный, административно-бюрократический, политический, академический, каждый из которых имеет специфический стиль, аргументацию и идеологию. Миграционная тематика в отличие от других имеет кольцевую или перекрестную аргументацию (СМИ ссылаются на чиновников и ученых, а последние - на данные СМИ) и зачастую легко совмещает прямо противоположные представления о проблеме.
Сфера медиа является важнейшей составляющей при формировании образа. Значительную роль в формировании образа миграции и мигранта играют печатные СМИ. Сегодня миграция рассматривается в СМИ преимущественно как объективный и неизбежный процесс. Но при этом до сих пор миграция нередко отождествляется с экспансией. По сути, российский читатель изначально настроен негативно по отношению к приезжим, так как ему постоянно напоминают, что проблема сложная и не имеет решения. Власть, через СМИ заявляя о важности миграции для России в связи с дефицитом трудовых ресурсов и депопуляцией населения, одновременно искусно актуализирует необходимость «охранной» стратегии и жесткого регулирования миграционных потоков.
Описывая социальный контекст, пресса, используя изобразительные приемы, формирует, точнее, помогает оформлению в основном уже сложившегося у читательской аудитории образа мигранта. Вместе с тем в звучащей риторике заложен и доминирует националистско-имперский стереотип. Но при этом националистический дискурс накладывается на общее прошлое, поскольку для большинства постсоветских стран в предшествующие исторические периоды с Россией сложились устойчивые традиции многостороннего социально-экономического и культурного взаимодействия.
В медийном дискурсе мигранты предстают в виде некой неодушевленной массы, потока, резервуара рабочей силы и одновременно инструментом для вытеснения коренного населения, в первую очередь с рынка труда, и даже в виде «антропологического оружия в необъявленной демографической войне» [Скребцова, 2007]. Трактовка мигрантов как неодушевленной массы способствует закреплению в сознании россиян схематического и предвзятого стереотипа, в то время как образ России - принимающей страны персонифицируется, в очередной раз эксплуатируется образ «России в качестве страны, страдающей от насилия и унижения».
Анализ прессы позволяет выделить два преобладающих типа образа этнического мигранта. Первый оценивается преимущественно негативно, в его характеристиках выделяются агрессия, угроза экономическому благосостоянию коренного населения и его культуре, обострение ситуации с преступностью, наркоманией, эпидемиологической обстановкой, несоответствие между нормами, принятыми в стране, и жизненными нормами этнических мигрантов, когда их образ жизни ограничен рамками этнической общины. В ином случае мигрант наделяется более позитивными характеристиками, долженствующими вызвать сочувствие в связи с многочисленными проблемами и трудностями адаптации. Но именно первый, доминирующий в прессе, образ мигранта влияет на формирование этнических стереотипов и социальных представлений у населения принимающей среды в целом и у читательской аудитории в частности.
Сформировавшийся негативный социально-психологический фон, равно как и образ мигрантов, созданный прессой, далее транслируется аудитории, усиливая в ней уже существующую тревогу, опасения, недоверие и другие отрицательные эмоциональные составляющие ментальных установок в отношении этнических мигрантов [Титов, 2004]. Пресса способствует «переводу» неприятия с бытовых, неоформленных стереотипов на уровень внешне аргументированных обоснований мотивов поведения «иного», «другого», «чужого». Это формирует как оппозицию «мы - они» («свои - чужие»), так и соответствующие стереотипы массового сознания. В итоге усиливаются взаимное социальное дистанцирование и замкнутость, не формируются практики партнерства, осложняется адаптация. Кроме того, со стороны принимающей среды это может привести к дискриминации и ограничению в правах некоторых категорий мигрантов, а со стороны этнических мигрантов – к актам агрессии. По мнению Федеральной миграционной службы России, СМИ негативно влияют на формирование образа мигранта у россиян. Так, в 2008 г. именно российские СМИ, по мнению 40 % граждан РФ, способствовали формированию нетерпимого отношения к мигрантам в стране 1. Но возникает вопрос: действительно ли нетерпимость россиян к мигрантам обусловлена влиянием СМИ?
Усиливающуюся конфликтность общества по отношению к мигрантам подтверждают и результаты социологических опросов. Многочисленные исследования, проводимые Левада-центром с 1990 г., отмечают негативную динамику в отношении россиян к мигрантам, характеризуя его как смещенную агрессию [Гудков, 2005]. По мнению директора Левада-центра Л. Д. Гудкова, «природа этнических фобий или неприязни к мигрантам представляет собой защитную архаическую реакцию на реальные или воображаемые угрозы в ситуациях, когда у населения, по его мнению, ограничены ресурсы выживания или возможности сохранения своих позиций или интересов» [Там же]. В массовой ксенофобии проявляется реакция общества на системную трансформацию, в том числе на интенсивную территориальную и социальную мобильность населения, что является, пусть и крайне примитивной, формой самозащиты от прогнозируемого усложнения общественной системы и реакцией на внешнее воздействие. Именно в отношении мигрантов происходит смещение напряженности, существующей в обществе, а нелюбовь к приезжим («понаехали тут») принимает как рефлексивный, так и нерефлексивный характер. Мигрантофобия неизбежно становится необходимой составляющей адаптационной реакции принимающего общества. Отношение к мигрантам характеризует не только специфику взглядов отдельных слоев и групп, но и массовое сознание в целом, позволяет судить об идентичности, равно как и о механизмах, поддерживающих определенный уровень социальной солидарности. Ксенофобия возникает в ответ на внутренние напряжения и комплексы, но затем влечет за собой проективную реакцию обоснования своей недоброжелательности в мнимых аргументах чужой неприязни и агрессии [Там же. С. 65].
Изначально терпимое и даже благожелательное отношение к мигрантам в конце 1980-х гг. меняется на негативное, и на протяжении 1990–2000-х гг. в сфере межэтнических отношений напряженность только углубляется [Гудков, 2002]; наблюдались также существенный рост ксенофобии и массовое стремление к ужесточению государственного контроля над миграцией. Если на заре 1990-х гг. тема миграции мало волновала общество, и отношение к беженцам и вынужденным мигрантам было очень терпимым, то после распада СССР, когда миграцию подстегнули межнациональные конфликты и экономические причины, ситуация резко изменилась. Уже к середине десятилетия до половины опрошенных респондентов высказывали мнение, что миграция стала «большой проблемой» для России; через десять лет уже две трети россиян разделяли мнение, что «приезжих слишком много». Сравнительный анализ социологических данных за 1997–2009 гг. относительно наличия в стране значительного количества мигрантов, в первую очередь из стран ближнего зарубежья 2, наглядно демонстрирует устойчивое сокращение количества лиц, выказавших положительное отношение к мигрантам. При этом наблюдается рост числа нейтрально настроенных, на их долю приходится почти половина респондентов. Более нестабильным показателем оказывается количество лиц, настроенных к мигрантам отрицательно и резко отрицательно.
Общество стало воспринимать мигрантов как угрозу и уже со второй половины 1990-х гг. начало искать пути «самозащи- ты», консолидируясь на основе внутренней ксенофобии. На рубеже 1990–2000-х гг. социальные исследования зафиксировали укрепление в российском коллективном сознании ощущения национальной исключительности, охранительно-запретительные установки показали изрядную степень распространенности в российском обществе ожиданий не только реализации «ограничительной» политики, но и дискриминационных мер в отношении этнических мигрантов.
К 2005 г. лишь четверть россиян не видела угрозы в многонациональном характере российского государства и в возможности приезда в страну людей разных национальностей. Лозунг «Россия для русских», бывший ранее неприемлемым для большинства населения (в середине 1990-х гг. лишь 10– 15 % россиян считали, что он может стать консолидирующим), поддерживался в разной степени уже более чем половиной респондентов, и в 2009 г. более 60 % опрошенных готовы были поддержать меры по ограничению числа иностранцев, приезжающих в Россию. За семь лет доля таких респондентов возросла на 25 % за счет сокращения численности тех, кто выступает за относительное смягчение административных барьеров и использование трудовых мигрантов в интересах развития страны.
Российское общество не хочет осознавать целесообразность и естественность миграции в Россию, половина населения страны категорически против присутствия мигрантов. Негативное отношение к мигрантам свидетельствует о внутреннем напряжении в современном российском обществе: о значительной распространенности понижающего типа социальной адаптации, непреодолимых барьерах, мешающих социальной мобильности, о препятствиях на пути формирования позитивных жизненных стратегий и способов их реализации 3. Сложившиеся в обществе фобии и стереотипы связаны в значительной степени не с дифференциацией «других» по происхождению и этничности, но в значительной степени поддерживаются архаичными страхами, стремлением уклониться от контактов и обеспечить для себя культурно однородную, предсказуемую среду обитания.
Российское общество идентифицирует не всех мигрантов 1990-х и первого десятилетия 2000-х гг., выделяя лишь три базовые группы: русские, выходцы из стран СНГ и Балтии; представители титульных этносов государств Средней Азии и Закавказья («кавказцы» и «таджики») и мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона, объединенные под собирательным образом «китайцы». Иерархическое восприятие этносов ведет к выстраиванию своеобразной шкалы социальной дистанции. В российском обществе наибольшая конфликтность фиксируется в отношении кавказских народов (без учета гражданства) и граждан Китая. Именно эти пришлые, не автохтонные, иммигрантские группы отличаются от принимающего общества социокультурными, религиозными, национальными и даже расовыми характеристиками.
Мощное поле напряженности существует вокруг граждан Китая. Контекст отношения россиян к Востоку вообще и к Китаю в частности всегда менялся в зависимости от политической конъюнктуры. В российском массовом сознании сложился весомый, но неоднозначный и противоречивый образ Китая. Устойчивый интерес к китайской культуре одновременно уживается с иррациональным ощущением угрозы (территориальной, экономической и демографической экспансии), исходящей из Китая. В 1990-е и начале 2000-х гг. в СМИ несколько раз поднималась антикитайская кампания, муссирующая тезис о «китайской угрозе». Но если в 1990-х и начале 2000-х гг. китайское присутствие интерпретировалась в категориях «желтая опасность» или «желтая угроза», то в настоящее время произошел переход от расовых характеристик к национальным.
Китайскую экспансию связывают не только с массовой миграцией граждан Поднебесной и китаизацией российского Дальнего Востока, но и с интересом Китая к сырьевым ресурсам Сибири и Дальнего Востока. По мнению иркутского исследователя В. И. Дятлова [2011], Россию сегодня в значительной степени интересуют не китайские мигранты, а воплощенная в них китайская проблема, выстроенная в концептах «экспансия», «эксплуатация» (в первую очередь ресурсов), «криминал». Парадок- сально, но при доминировании негативных оценок к китайскому присутствию в России россияне в целом благожелательно относятся к Китаю и сотрудничеству с этой страной. Именно по совокупности этих обстоятельств китайская тема широко представлена во всех типах дискурсов, в том числе и в масс-медиа.
Сегодня отношение россиян к китайским мигрантам вписывается в общую картину отношения россиян к трудовым мигрантам. В обществе достаточно распространены взаимоисключающие точки зрения на последствия использования труда китайских рабочих. Доминирует точка зрения, согласно которой использование китайской рабочей силы ведет к росту безработицы среди местного населения, при этом чуть меньше половины жителей Дальнего Востока считают, что ее привлечение способствует восполнению дефицита рабочей силы [Ларин, 2009]. Социокультурные оценки китайцев россиянами до сих пор занижены. В качестве положительных черт подчеркиваются трудолюбие, предприимчивость, неприхотливость, адаптивность, в качестве отрицательных - хитрость, неискренность, скрытое высокомерие.
Поскольку китайцы в России сумели найти свою экономическую нишу и свели конкуренцию к минимуму, россияне пока признают и помнят, что китайцы одели и обули нас в трудные времена. Но постепенно этот сюжет (китайский ширпотреб) становится для прессы все более периферийным. Традиционно в России восприятие китайцев не было персонифицированным, хотя в 1990-е гг. доминировала практика личностного общения. В последнее время отношение к китайцам как «биомассе» только усиливается. На фоне значительного количества посвященных им материалов СМИ, в том числе на телевидении, масс-медиа не формируют индивидуальный образ китайского мигранта. Данный образ для россиян становится все более схематичным, безликим.
Средний россиянин не различает мигрантов из закавказских стран и коренное население российской части Кавказа, объединяя всех под термином «лицо кавказской национальности». В значительной степени кавказофобия в России была неизбежна: еще с советских времен на обыденном уровне фиксировалась чужеродность кав- казцев, а в постсоветский период к ним добавился комплекс страхов, начиная от «боязни» рынка до страхов относительно развала страны и терроризма. При этом образ «кавказца» как врага сознательно формировался и российской властью. До сих пор в массовом сознании россиян «кавказец» -это скрытая угроза; негативные характеристики доминируют над позитивными. В последнее время, несмотря на информационные всплески (события на Манежной площади), интерес СМИ к данной проблеме видоизменяется и идет на спад. Если в 1990-х - начале 2000-х гг. основу кавказо-фобии составлял ярко выраженный акцент на темы насилия, войны и террора, то сейчас это в первую очередь мигрантофобия [Дятлов, 2011], хотя основная миграционная волна в Россию с постсоветского Кавказа уже прошла. На периферии тематики СМИ при провозглашенной политике толерантности продолжают сохраняться культурноэтнический негативизм и плохо скрываемый национализм, порождаемый осознанием того, каких невероятных усилий, в том числе и материальных, будет стоить сохранение Кавказа в составе России.
Миграция из постсоветских Средней Азии и Закавказья способствует увеличению количества мусульман в нашей стране, и именно ислам ассоциируется с наплывом в Россию иммигрантов. Из социально-экономической плоскости данный вопрос уже давно перешел в разряд «мусульманской угрозы». Угрозу в исламских иммигрантах видит более половины европейцев, из них три четверти не верят в интеграцию мусульман в европейское общество. В российском обществе также доминирует точка зрения, согласно которой ислам несовместим с концепцией западного мира. Несмотря на заверения о толерантности российского общества и возросшей политкорректности, на уровне массового сознания россияне воспринимали и продолжают воспринимать ислам как нечто чужеродное. Сегодня четверть россиян считает ислам чуждой религией. Безусловно, приток мусульманских мигрантов может привести к укреплению позиций, роли и политического веса ислама и мусульманских организаций в России. До сих пор мигрантские диаспоры в России формировались по этническому, а не религиозному признаку. Исламская компонента миграции все чаще ставится в повестку дня, но реально себя пока не проявляет, и в этом смысле российская ситуация кардинально отличается от западноевропейской. Российская пресса крайне мало внимания уделяет важнейшей проблеме интеграции мусульманских иммигрантов в российское мусульманское общество. Однако эксперты фиксируют попытку увязать трудовую миграцию из Центральной Азии с угрозой «исламского экстремизма», хотя этот тезис пока не получает ответной реакции у аудитории [Дятлов, 2011].
Мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии воспринимаются российским обществом в значительной степени не как мусульмане, а как рабочая сила, как люди второго сорта. Российское население обращается к трудовым мигрантам по преимуществу свысока и оскорбительно, лишь треть – нейтрально. Присутствие мигрантов из Центральной Азии оказывает реальное воздействие на этнический ландшафт страны, но при этом не вызывает явного отрицания в российском обществе. Мигранты из постсоветской Центральной Азии представлены для среднестатистического россиянина в образе «таджика». Возможно, это связано с тем, что из центральноазиатских народов первыми трудовыми мигрантами в России были именно таджики, хотя количественно сейчас доминируют узбеки. «Таджик» (как явление, а не приезжий из Таджикистана) стал массовой фигурой и частью российской повседневности. Фактически слово «таджик» стало синонимом слова «гастарбайтер» (заметим, слова немецкого по происхождению, также несущего изрядный негативный смысл), а сам жаргонизм стал общепринятым в российской массовой речевой практике [Дятлов, 2011]. Негативное отношение к таджикским мигрантам в значительной степени связано с упоминаниями их в СМИ связи с проблемой наркотиков, что формирует негативный ассоциативный ряд: «таджик – мигрант – иностранец – гастарбайтер – наркоторговец» 4.
До сих пор жизнедеятельность и труд среднеазиатских мигрантов протекают в значительной степени в нелегальной сфере, что способствует закреплению маргиналь- ного статуса трудовых мигрантов как особой социально-профессиональной общности и даже особой страты в социальной структуре постсоветского российского общества 5. Этот тезис находит отражение как в медийном, так и в академическом дискурсе, но при этом отмечается, что пока мигранты представляют собой закрытую и маргинальную общность, ориентированную в значительной степени на внутригрупповые интересы, а не на включенность в систему социальных отношений в России [Пяткова, 2005]. Российское общество настойчиво пытается вывести мигранта за границы социума. Этническая, расовая и культурная компонента миграции для России все более и более нивелируется, уступая место единой мигрантофобии, что свидетельствует в первую очередь о том, что россияне продолжают придерживаться «оборонительной тактики» в отношении мигрантов.
THE IMAGE OF A WORK IMMIGRANT IN THE PRESS AND IN THE MASS THINKING OF RUSSIANS