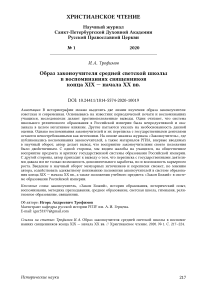Образ законоучителя средней светской школы в воспоминаниях священников конца XIX - начала XX вв
Автор: Трофимов Игорь Андреевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 (90), 2020 года.
Бесплатный доступ
В историографии можно выделить две линии изучения образа законоучителя: советская и современная. Основываясь на известиях периодической печати и воспоминаниях учащихся, исследователи делают противоположенные выводы. Одни считают, что система школьного религиозного образования в Российской империи была непродуктивной и оказывала в целом негативное влияние. Другие пытаются указать на необоснованность данной оценки. Однако воспоминания законоучителей и их переписка с государственными деятелями остаются невостребованными как источники. На основе анализа журнала «Законоучитель», где публиковались воспоминания законоучителей, а также материалов РГИА, впервые вводимых в научный оборот, автор делает вывод, что восприятие законоучителями своего положения было двойственным. С одной стороны, мы видим жалобы на учащихся, на общественное восприятие предмета и критику государственной системы образования Российской империи. С другой стороны, автор приходит к выводу о том, что переписка с государственными деятелями давала им не только возможность дополнительного заработка, но и возможность карьерного роста. Введение в научный оборот мемуарных источников и переписки сможет, по мнению автора, содействовать адекватному пониманию положения законоучителей в системе образования конца XIX - начала XX вв., а также положения учебного предмета «Закон Божий» в системе образования Российской империи.
Законоучитель, "закон божий", история образования, исторический опыт, воспоминания, методика преподавания, среднее образование, светская школа, гимназия, религиозное образование, священник
Короткий адрес: https://sciup.org/140248982
IDR: 140248982 | DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10019
Текст научной статьи Образ законоучителя средней светской школы в воспоминаниях священников конца XIX - начала XX вв
Об авторе: игорь Андреевич трофимов
Магистрант кафедры русской истории РГПУ им. А. И. Герцена.
Ссылка на статью: Трофимов И. А. Образ законоучителя средней светской школы в воспоминаниях священников конца XIX — начала XX вв. // Христианское чтение. 2020. № 1. С. 217–224.
KhRiStiAnSKoye chteniye [christian Reading]
Scienti^c JournalSaint Petersburg ^eological Academy Russian orthodox church
no. 1 2020
Igor A. Tro^mov
^e image of the God’s law teacher of the Secondary Secular School in the memoirs of Priests of the late 19th — early 20th centuries
Master’s student of the Department of Russian history of the Herzen State Pedagogical University of Russia.
Прежде всего стоит сказать несколько слов об определении термина «Закон Божий» как учебного предмета, а также напомнить, с какого года он становится обязательным предметом во всех учебных заведениях Российской империи. Начнем с того, что же понималось в дореволюционной литературе под Законом Божиим. С одной стороны, это основные принципы и идеи христианского вероучения, учения религиозно-нравственных правил жизни и деятельности. В духе такой концепции определение Закону Божию дает прот. И. Н. Бухарев в своем труде «Книга для начального обучения Закону Божию дома и в начальных училищах». Бухарев пишет, что «Законом Божиим называется учение, которое дано людям Самим Богом. Это учение называется Законом Божиим потому, что от Бога узаконено, т. е. предписано людям знать и исполнять его, — для угождения Ему и для собственного спасения» [Бухарев, 1909, 1]. Современное определение выглядит следующим образом: «Это учебный общеобразовательный предмет, обучающий истинам православного вероисповедования и включающий в себя — предварительные понятия о Боге, о вере и молитве, о богослужении и т. п.» [Бычкова, 2009, 7].
Как учебный предмет Закон Божий вводится 16 ноября 1811 г., когда вышло постановление «О обучении во всех учебных заведениях Закону Божию и о приглашении почетного духовенства на экзамены» (ПСЗ-I, Т. XXХI, 1830, № 24874). Данная мера была вызвана личной просьбой обер-прокурора Синода А. Н. Голицына и митр. Амвросия. Именно после данного указа Закон Божий становился обязательным предметом: «…отныне навсегда постановлено было коренным и неизменимым правилом во всех учебных заведениях Военного и Гражданского ведомства… обучать юношество Закону Божию» (ПСЗ-I, Т. XXХI, 1830, № 24874). Как школьный предмет Закон Божий ликвидируется советской властью декретом «О свободе совести, церковных и религиозных организаций» 20 января 1918 г. и постановлением Народного комиссариата по просвещению, опубликованным в газете рабочего и крестьянского правительства № 26 от 17 февраля 1918 г. [Житенев, 2015, 211].
Большинство исследовательских трудов, посвященных законоучителю и Закону Божию, можно разделить на два периода: советский и современный. В связи с этим имеет смысл говорить об двух линиях, которые до сих пор можно встретить при изучении данного предмета. Советская историография писала о Законе Божием и о законоучителях в отрицательном свете, выставляя священников как «государственных контролеров над образованием», «гонителей народного просвещения» и т. п. Стоит отметить, что данная традиция сохраняется и на современном этапе изучения темы, с опорой на воспоминания учащихся и материалы периодической печати [Десниц-кий (Строев), 1923, 12–13, 15–16, 20, 36–38; Грекулов, 1962, 3–4, 15–17, 52–53, 56–59, 62; Андреева, 2008, 114–124; Грехов, 1996, 289–292]. Большинство современных исследователей истории образования обращают внимание на положительные примеры влияния законоучителей в деле просвещения народа. Однако их источниковой базой также является периодическая печать и воспоминания учащихся [Синельников, 2011, 119–125; Титова, Дивногорцева, 2017, 234–240].
Представляется, что воспоминания законоучителей — малоизученный пласт источников (особенно тех, что хранятся в Российском государственном историческом архиве). В основном, это воспоминания законоучителей, напечатанные в журнале «Законоучитель» за 1914–1917 гг. Не менее важными источниками являются и материалы РГИА. Это фонд 696 — Материалы графа Дмитрия Ивановича Толстого и фонд 934 — материалы Петра Павловича Дурново. Однако, на наш взгляд, данный вид источников требует детальной проверки и следует критически относиться к выводам источников личного происхождения, однако их изучение может приблизить нас к реальному пониманию роли Закона Божия как учебного предмета в Российской империи. Отдавая себе отчет в том, что в воспоминаниях и дневниках описывалось многое, мы постарались выделить три главные линии, которых касались в своих заметках законоучителя.
Критику государственной политики в области церковного образования мы можем свести к трем важным аспектам. Первый из них — наличие устаревшей программы преподавания. Известный церковный деятель конца XIX в. Иоанн Покровский отмечал: «Дело не в количестве (годов), а в качестве учения. Остается вечная надежда на какие-то хорошие методы преподавания. Всю жизнь ищем, ищем, обкладываемся книгами, учебниками, которых за время реформы школьной с половины прошедшего столетия вышло более 400» (Законоучитель. 1914. № 31. С. 587). Далее, это критика «Толстовской» системы гимназий. Архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) писал о учителях Пятой Санкт-Петербургской гимназии: «Сами учителя были как бы придавленные инквизиторской системой Толстого… делались крайними формалистами… это было не преподаванием, а постоянным экзаменом. <…> Впрочем, вина в этом не на учителях — они сами жили под постоянным страхом» (Законоучитель. 1914. № 30. С. 561). В-третьих, критике подвергалось положение предмета в системе образования. Так, законоучитель Куплевский вспоминал: «Общий режим средней светской школы таков, что только, по-видимому, из какого-то снисхождения, из милости дается в ней место Закону Божию. И при этом с явной тенденцией, чтобы по этому предмету не было удовлетворительных отметок или было их как можно меньше» (Законоучитель. 1915. № 42. С. 767).
Исходя из этих воспоминаний, мы можем заключить, что критика не только самого предмета, но и школьной системы, в рамках которой находилось преподавание Закона Божия, проводилась и самими учителями данного предмета. Факт весьма показателен: становится очевидным, что законоучителя также видели недостатки в преподавании предмета и старались обратить на это внимание Синода и государства. Однако нам не удалось проследить, как св. Синод реагировал на данные воспоминания и высказывания.
Вторым важным аспектом образа законоучителя было восприятие им учеников. Здесь стоит привести два показательных примера. Во-первых — следующий эпизод из педагогической карьеры Евгения Фёдоровича Сосунцова. Законоучитель вызывает ученика. Тот встаёт, сердито заявляет отказ и тотчас садится. Законоучитель спрашивает о причине отказа. Ученик грубо обрывает законоучителя: «Что вы ко мне пристали? Сказал, отвечать не буду»… Е. Ф. Сосунцов не повысил голос на ученика. На другой день ученик подошёл с самыми искренними извинениями к законоучителю, кстати сказать, забывшему о вчерашней резкости ученика, и со слезами на глазах объяснил, что он всю ночь готовился по одному предмету… А тот учитель назвал его бездельником и категорически сказал, что ученик пропьянствовал всю последнюю ночь. С той поры ученик этот сделался самым прилежным слушателем законоучителя и самым преданным его другом (Законоучитель. 1917. № 83. С. 1259).
Важно отметить, что, несмотря на такой пример из своей карьеры, учитель этот делает в конце своих воспоминаний правильный вывод о роли педагога в деле воспитания учащихся: «Учеников нужно постоянно держать в руках, и на груди, чтобы они не избаловались, чтобы привитые им инстинкты не взяли перевеса над лучшими сторонами природы. Обидчивый учитель нуждается сам в воспитании, а потому ему в учительской корпорации не место. При отсутствии авторитета учителя каждому учителю лучше всего избрать себе другую профессию, где он может быть менее вреден» (Законоучитель. 1917. № 83. С. 1259–1260).
Весьма показательными являются и воспоминания архиепископа Волынского Антония о времени, когда он обучался в Пятой Санкт-Петербургской гимназии. В них мы можем найти не только оценку законоучителя Дмитрия Павловича Соколова. Стоит привести подробное описание его: «Говорил много, спрашивал мало, но перед выставкой оценок спрашивал всех по всему пройденному курсу за два месяца до окончания курса; сообщал больше сведений, чем содержали учебники, и большего не требовал, а если ученик плохо объяснял, Соколов изменял ответ по-своему. Его увлекательная речь лилась как река. Он ходил по классу, и лица учеников обращались за ним то в ту, то в другую сторону. <…> Приводил ещё законоучитель примеры из повседневной ученической жизни, чтобы пояснить заповеди Господни.
<…> Умел говорить и о грубости: блуде, онанизме, и так умело, не задевая самолюбия, раскрывалась нравственная и физическая пагубность этих пороков, и что ими хвалиться не надо» (Законоучитель. 1914. № 30. С. 562–564). Перед нами законоучитель, который не только беседой, но и примерами из повседневной жизни мог помочь ученикам понять христианские ценности, учит пониманию сути и борьбе с вечными пороками, которые встречаются у молодых людей: блудом, сквернословием, неуважением старших и т. д.
Задачей законоучителя являлось не только проведение уроков, но и проведение классных и внеклассных бесед о том, что подобные пороки не украшают юношей (Журналы и протоколы заседаний Всероссийского съезда законоучителей, 1909, 190– 191, 204; Докладная записка Святейшему Синоду, 1909, 6–7).
Стоит привести пример еще одного законоучителя Пятой Санкт-Петербургской гимназии — Григория Спиридоновича Петрова. С 1900 по 1913 гг. он вел переписку с графом Дмитрием Ивановичем Толстым1. В письме от 5 марта 1901 г. мы можем увидеть совершенно другое отношение законоучителя к детям. Спиридонов вынужден оставить занятия с детьми графа, так как «Горло все хуже, а главное, я вообще так устал: нет огня, без которого я всегда в конце учебного года чувствую себя неспособным к работе». При этом просит назначить на свое место по рекомендации Василия Белогостецкого, законоучителя Пажеского корпуса. В конце письма Г. С. Петров добавляет: «Милых мальчиков я крепко целую и благословляю» (РГИА. Ф. 696. Оп. 1. Д. 455. Л. 2–3.). Такая же ситуация наблюдается в переписке законоучителя Пятой Санкт-Петербургской гимназии Василия Яковлевича Михайловского с Петром Павловичем Дурново2. В письме от 4 апреля 1892 г. законоучитель поздравляет П. П. Дурново с принятием Святых Даров и просит передать поклон его детям и жене Марии Васильевне. По нашему мнению, это была вынужденная необходимость, ведь именно жена Дурново пожертвовала деньги на строительство в 1882 г. церкви Происхождения Честных Древ3 (РГИА. Ф. 934. Оп. 2. Д. 558. Л. 13).
Осмысляя представленные выше отрывки воспоминаний, мы не только видим разное восприятие учеников разными учителями, но и фиксируем те же самые проблемы, с какими сталкиваются и современные учителя. Это нежелание учащегося отвечать на вопрос учителя, профессиональное выгорание, отсутствие авторитета среди учеников. Своеобразным итогом становятся уже цитированные нами слова Е. Ф. Сосунцова: «Обидчивый учитель нуждается сам в воспитании, а потому ему в учительской корпорации не место. При отсутствии авторитета учителя каждому учителю лучше всего избрать себе другую профессию, где он может быть менее вреден» (Законоучитель. 1917. № 83. С. 1259–1260). На наш взгляд, данный критерий актуален и в наши дни.
Несмотря на наличие столь позитивных замечаний, которые мы можем прочесть в воспоминаниях законоучителей, стоит добавить важное замечание. Из личной переписки священников с государственными деятелями мы можем не только отметить для себя качество их отношения к детям, но и заметить просьбы назначить на своё место другого законоучителя. Это может указывать на традиционную российскую просьбу — просьбу назначить на своё место знакомого или близкого человека4.
Третий аспект — это отношение родителей и общества к предмету, каким его видели законоучителя. В своих воспоминаниях о периоде работы в земской школе свящ. Иоанн Покровский описывает следующий случай: «Выходит к столу ученик, отвечать приходится наизусть. Посему нередко ответ ученика начинается… долгим молчанием. Наводящие вопросы, ненаучные ответы, молчание — впечатление тяжёлое. Родители пришли и стоят в коридоре, пришли за назиданием, за родительским утешением… но утешительного мало» (Законоучитель. 1914. № 31. С. 586). Не менее интересными являются рассуждения священника Куплевского. Всё начинается с вопроса: «Неужели можно сказать, что родители „друзья нашей Церкви“?». Затем следует пояснение автора: «Родители простонародья (мещане, купцы, крестьяне) — люди или малосведущие в вопросах веры и Церкви, или полные невежды, для которых школа представляет интерес лишь постольку, поскольку она обещает материальную выгоду в смысле обеспечения их детей дипломами, дающими возможность как можно богаче, роскошнее устроиться с многотысячными окладами жалованья. Общий режим средней светской школы таков, что только, по-видимому, из какого-то снисхождения, из милости дается в ней место Закону Божию. И при этом с явной тенденцией, чтобы по этому предмету не было удовлетворительных отметок или было их как можно меньше» (Законоучитель. 1915. № 42. С. 67).
Данные воспоминания показательны нам тем, что проблемы даже законоучителей — типичный случай проблем любого учителя. Интересно не только сравнение ситуации вековой давности с проблемами обучения юношества в современной школе. Не менее важными и интересными для исследователя являются свидетельства того, как родители воспринимали Закон Божий как учебный предмет и религиозное образование в целом. Знакомство и мемуарными источниками подтверждает мнение В. А. Веременко: в дворянско-интеллигентной среде распространяются нигилистические и атеистические идеи, и происходит это в связи с тем, что законоучителя не стремились развивать религиозное сознание учащихся, а в основном ставили баллы за выученные тексты [Веременко, 2016, 157–167]. В целом, законоучителя правильно описывали проблему отношения родителей к предмету. Однако, критикуя существующее положение вещей, законоучителя предлагали возращение к старой системе обучения — катехизации; говорили о необходимости появления нового органа образования, о законоучителе, который, зная проблемы близко, начал бы их разрешать (Законоучитель. 1914. № 31. С. 587; Законоучитель. 1915. № 42. С. 767). Могло ли это изменить мнение общества и родителей по отношению к Закону Божию? Ответ на данный вопрос нам кажется дискуссионным.
Читая переписку законоучителя В. Я. Михайловского с П. П. Дурново, мы становимся свидетелями одной интересной ситуации. В письме от 3 апреля 1898 г. священник в 11 часов вечера увидел у своего дома юношу, который просил милостыню для себя и других детей. Как оказалось из расспросов, это была графиня (имя ее в письме не указано), несколько лет скрывающая свое бедственное положение. Интересна дальнейшая часть письма: «И вот мне приходится быть Иисусом и свидетельствовать её семейства голод… Но какой же я им кормилец и помощник?». И В. Я. Михайловский просит содействия П. П. Дурново «в посильной и благовременной помощи». Более того, если Петр Павлович согласится, он даст ему и адрес графини (РГИА. Ф. 934. Оп. 2. Д. 558. Л. 17–17 об.). Данный факт показывает нам, что священник не мог выполнить своей важной обязанности — помочь бедным и нуждающимся людям! И просил при этом помощи у государственного деятеля. С другой стороны, В. Я. Михайловский старался как мог исполнить именно свой долг священника. Чем закончилась данная история, нам не удалось установить.
Подводя итог, стоит отметить, что образ законоучителя в воспоминаниях самих учителей вырисовывается двойственным. С одной стороны, мы видим «типичных» представителей учительской корпорации, которые критикуют государственную систему образования, положение своего предмета, отношение к нему учеников. Но с другой стороны, мы видим также, что некоторые законоучителя были близки с государственными деятелями, что позволяло не только рассчитывать на наличие связей, но и получить возможность обратиться за протекцией или способствовать продвижению по службе своих знакомых. Итак, в воспоминаниях самих законоучителей они предстают перед нами как педагоги, которые понимают положение своего предмета, понимают отношение родителей и учеников, но мало что могут сделать, надеясь на помощь государства. И некоторые из них обзаводились связями с государственными деятелями, чтобы добиться продвижения по службе. Тем не менее важно отметить, что данный вид источников показывает и человеческие качества учителей.
Представляется, что изучение воспоминаний, дневников и переписки законоучителей может повлиять на становление объективной оценки роли законоучителя в системе образования Российской империи.
Список литературы Образ законоучителя средней светской школы в воспоминаниях священников конца XIX - начала XX вв
- Докладная записка Святейшему Синоду бывшего председателя Всерос. съезда законоучителей светских средне-учеб. заведений в июле 1909 г. о результатах сего Съезда. СПб.: Синодальная типография, 1909.
- Журналы и протоколы заседаний Всероссийского съезда законоучителей светских среднеучебных заведений, состоявшегося в 1909 году. СПб.: Синодальная типография, 1909.
- Антоний (Храповицкий), архиеп. Воспоминания ученика о законоучителе // Законоучитель. Церковно-пед. и обществ. журнал. 1914. № 30. С. 561-564.
- Покровский И. Из дневника законоучителя // Законоучитель. Церковно-пед. и обществ. журнал. 1914. № 31. С. 586-587.
- Куплевский Вл. Мысли законоучителя о средней школе // Законоучитель. Церковно-пед. и обществ. журнал. 1915. № 42. С. 785-787.
- Сосунцов Е. Дерзкие ученики // Законоучитель. Церковно-пед. и обществ. журнал. 1917. № 83. С. 1258-1260.
- Полное Собрание Законов - I. Т. XXХI. СПб. 1830.
- Российский Государственный Исторический Архив. Фонд 733: Департамент Народного просвещения. Оп. 24. Д. 7; Фонд 934: Дурново Пётр Павлович (1835-1919). Оп. 2. Д. 558; Фонд 696: Толстые, графы: Иван Матвеевич (1806-1867), Иван Иванович (1856-1916), Дмитрий Иванович (р. 1860). Оп. 1. Д. 455.
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 139: Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа, 1803-1918. Оп. 1. Д. 4712. литература
- Андреева Л. А. Феномен религиозного индифферентизма в Российской империи // Общественные науки и современность. 2008. № 4. C. 114-124.
- Бухарев И. Н. Книга для начального обучения Закону Божию дома и в начальных училищах. М., 1909. Ч. I.
- Бычкова В. М. Некоторые моменты из истории преподавания закона Божия в России // Вестник ПСТГУ. Сер. 4: Педагогика. Психология. 2009. № 12. С. 7-20.
- Веременко В. А. Преподавание "Закона Божия" в средней школе России во второй половине XIX - начале XX вв. // Роман с Клио. Сб. научных статей и юбилейных материалов, посвященный 60-летию С. Н. Полторака / Науч. ред. А. Н. Еремеева, В. С. Измозик. СПб., 2016. С. 157-167.
- Грекулов Е. Ф. Православная церковь - враг просвещения. М., 1962.
- Грехов А. В. Религиозное обучение в российских учебных заведениях на рубеже XIX-XX веков // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (К 450-летию Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца). Материалы Международной научной конференции. Киров, 1996. Т. 2. С. 289-292.
- Десницкий В. А. (В. Строев). Церковь и школа РСФСР. Берлин, 1923.
- Житенев Т. Е. Вопрос о преподавании Закона Божьего в контексте церковно-государственных отношений в 1917-1918 году // Вестник ВУиТ. 2015. № 4 (19). С. 205-213.
- Синельников С. П. Оценки личности и деятельности законоучителя дореволюционной школы в советской и постсоветской историографии // Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения: науч. сб. (по материалам 1-й Международной научно-практической интернет-конференции) / Отв. ред. В. Н. Сидорцов [и др.]. Минск: БГУ, 2011. С. 119-125.
- Титова Е. Е., Дивногорцева С. Ю. Личность законоучителя в истории России и его образ в мемуарной литературе // Духовно-нравственный опыт народа и православная педагогическая культура как основа воспитательного идеала. 2017. С. 234-240.