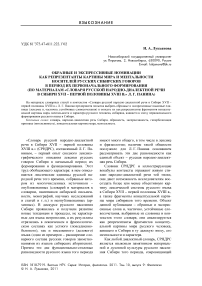Образные и экспрессивные номинации как репрезентанты картины мира и ментальности носителей русских сибирских говоров в период их первоначального формирования (по материалам «Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири XVII - первой половины XVIII в.» Л. Г. Панина)
Автор: Лукьянова Нина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
На материале словарных статей и контекстов «Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII - первой половины ХVIII в.» Л. Г. Панина предпринята попытка выбрать образные и экспрессивные языковые единицы (лексемы и, частично, устойчивые словосочетания) и описать их как репрезентанты фрагментов концептуальной картины мира, ментальности и характера русского человека, сибиряка, жившего в эпоху первоначального формирования русского языка в Сибири.
Словарь, народно-диалектная речь сибири, образность, экспрессивность, гиперболизация признака (интенсивность), концептуальная картина мира, ментальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737605
IDR: 14737605 | УДК: 81'373.47+811.222.1'02
Текст научной статьи Образные и экспрессивные номинации как репрезентанты картины мира и ментальности носителей русских сибирских говоров в период их первоначального формирования (по материалам «Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири XVII - первой половины XVIII в.» Л. Г. Панина)
«Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в.» (СРНДРС), составленный Л. Г. Паниным, – первый опыт сводного лексикографического описания лексики русских говоров Сибири в начальный период их формирования и функционирования. Этот труд обобщающего характера: в нем описываются лексические единицы русской народной речи того времени, собранные автором из многочисленных источников – опубликованных (словарей и материалов к словарям, памятников сибирской письменности, монографий, научных исследований и статей и т. п.) и неопубликованных (архивных). В дискурсе русского населения Сибири проявились и получили развитие новые тенденции и процессы, не характерные для языка метрополии, а их результаты отразились в лексическом и фразеологическом составах как устного (повседневнобытового), так и письменного (делового) языка (один из примеров – расширение словарного состава русских говоров заимствованиями из языков сибирских аборигенов). Причем эти две функционально-стилевые разновидности русского языка того периода имеют много общего, в том числе в лексике и фразеологии; наличие такой общности послужило для Л. Г. Панина основанием рассматривать эти две разновидности как единый объект – русская народно-диалектная речь Сибири.
Словник СРНДРС и иллюстрирующие вокабулы контексты отражают живую стихию народно-диалектной речи той эпохи, они дают возможность исследователям воссоздать более или менее объективную картину лексической системы русского языка в Сибири XVII – первой половины XVIII в., а также фрагменты концептуальной картины мира сибиряков того времени. Объект данной публикации – образные и экспрессивные слова и, частично, устойчивые словосочетания, выбранные из словника и контекстов этого словаря, они анализируются как репрезентанты фрагментов концептуальной картины мира русского человека, жившего в Сибири в ту далекую эпоху, его ментальности и характера.
Как любой диалектный словарь, СРНДРС является языковым памятником материальной и духовной культуры русского населения Сибири того периода, сокровищницей
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © Н. А. Лукьянова, 2011
образной речи сибиряков. Словарь демонстрирует довольно широкий диапазон тематического (понятийного) разнообразия лексики: мир природы, концептуальные сферы «человек», «семья, родственные отношения», «дом», «быт», «обычаи», «одежда, головные уборы, обувь», «средства передвижения», «производство, занятия людей», «война», «защита», «пространство», «время», «аборигены Сибири» и др. – разнообразные тематические группы номинаций каждой из этих сфер представлены в СРНДРС.
Словарь является ценным источником изучения диалектного словаря современных русских говоров Сибири. Последние унаследовали из языка XVII–XVIII вв., а через него и более ранних эпох и сохранили в своем словарном составе, активном или пассивном, огромный массив слов, вышедший впоследствии из общерусского речевого обихода. Многие из зафиксированных в СРНДРС номинаций имеют общесибирский (и шире – общерусский) ареал в современных говорах, например: летось, зимусь, за -всегда , могута , могутной , имать , робить , пособить и пособлять , сулить , хоронить ‘прятать’, белковать , бобровать и другие глаголы с общим значением ‘охотиться на определенного зверя’, бусый, заплот, выш-ка , подызбица , голбец , кут / куть , кутный , лагун , лопоть , лопотина , плица , перстянка , шабур, пимы, нетель, морда ‘верша’, кулёма ‘ловушка на зверя’, горбуша ‘род косы’, долбленка, елань, согра, ляга, заимка и др. -эти и многие другие слова находим почти в любом сибирском диалектном словаре . Они известны всем сибирским диалектологам .
Материалы СРНДРС , наряду с другими источниками , ценны для изучения семанти ческой эволюции отдельных слов и целых групп слов старорусского языка . Так , при сравнении семантики прилагательного нуж-ный по СРНДРС ( в старорусском языке оно было многозначным ) ‘ живущий в бедности , испытывающий нужду ’, ‘ бедный , скудный ’, ‘ плохой , негодный ’, ‘ необходимый вследст вие крайней нужды ’ и современным толко вым словарям выявляется историческое из менение лексемы в направлении утраты сем ‘ нужда ’ ( в СРНДРС зарегистрировано и производящее существительное нужа ‘ нуж да , недостаток , бедность ’ и ‘ тягость , лише ния , трудные условия существования ’), ‘ бедность ’, ‘ скудость ’, ‘ плохой , негодный ’
( с . 87–88) 1, актуализации и генерализации семы ‘ необходимый ’ в новом ( современном ) значении ‘ требующийся , необходимый ’ (нужные средства, сумма, указание, дого-вор) и семы ‘ приносящий пользу ’ в значе нии ‘ полезный , такой , без которого или без чего трудно обойтись’, разг. (нужный чело -век, нужные связи). Прилагательное воло-китный ‘ простой , обыденный , будничный ’ (Не надо эти луки богтырския. Есть у меня лучонко волокитной, С которым я езжу по чисту полю (с. 22)) - в современном значении этого слова актуальны семы ‘хлопоты’, ‘гиперболизация признака’ (такой, который требует много хлопот) и негативная оценка (например: Пустяковое дело, но волокит -ное ). Следствием эволюции существительного рухлядь ‘домашнее имущество’ и ‘пушнина’, то же, что мягкая рухлядь (с. 135), стала утрата из языка второго значения, а также в результате актуализации скрытых периферийных сем ‘старый’ и негативной оценки ‘плохой’ сформировалось современное значение ‘всякий старый (плохой) домашний скарб, пожитки’.
Особую ценность, с моей точки зрения, представляют зафиксированные в СРНДРС лексемы, синлексемы (устойчивые словосочетания номинативного типа), фразеологизмы, отражающие субъективную сферу сознания наших предков: их чувства, эмоции, переживания, оценки событий, ситуаций, реалий, а также их ментальность, образные представления о реалиях их жизни, отношениях между людьми. Такие слова Л. Г. Панин интерпретирует с помощью соответствующих словарных помет. Среди них находим эмоционально - оценочные - ласкат. (троелеточек), предосудит. (шишиморст-во / сишиморство ‘вранье, навет, оговоры’), умыслить (с) собою ‘придумать, надумать’, уничижит. (кляченко ‘лошадь, кляча’, горниченко ‘горница’, женишко ‘жена’, дочеришко (Осталось у меня... в Соли Вяче -гоцкой моя женишко Стефанидко с доче -ришком (с. 38)), детишко ‘дети’, лопотьиш-ка, малахаишко ‘меховая шапка’, одежонко, послишка ‘послы’, человеченко ‘человек’, службишка и службишко, хвостишко ‘мех с хвоста пушного зверя’), шутл. (килди-милди иносказат. ‘причинное место’); размерно -оценочные – уменьшит.-ласкат. (каючек к каюк ‘крытое речное грузовое судно’, голб-чик от голбец ‘пристройка или ларь у русской печки’), уменьшит.-уничижит. (дворенко и дворенцо ‘двор’, избенко, кин -дячишко от киндяк ‘одноцветная хлопчатобумажная ткань’, копьишко, конишка, вол -чишко ‘шкура волка’, лодченка, лосинушка ‘лосина’ (выделанная лосиная кожа), лос-кутьишко ‘лоскутье (лоскуты)’, мошнишка ‘мешочек, кошелек для денег’, пущальни-чишко ‘пущальница’ (род рыболовной снасти), угодьишка и угодьишки ‘угодья’); собственно -размерные - уменьшит. (копей -цо, горенка от горница), увеличит. (чинга-лище ‘кинжал’); функционально - стилевые -бран. (шишимора ‘кикимора’, еретница ‘безбожница, еретица’), груб. (хайлище ‘пасть, рот’).
Как показывают приведенные в словарных статьях контексты, в ментальности служилых людей и государственных крестьян было четкое понимание социальноиерархического противопоставления «высокий – низкий»: простой человек осознавал себя холопом по отношению к государю и другому вышестоящему лицу, в своих челобитных он пишет (обязан был писать) о себе в уничижительной форме, подчеркивая тем самым свое подчиненное, «подданное» (под -данцы, ед. подданец ‘подданные’ (с. 109)), «низкое» положение: Бьют челом холопи твои Енисейского острогу служивые лю-дишки, отаманишка Ивашка Галкин, де -сятник Ильейка Понкратов (с. 91).
В СРНДРС введены пометы образн. (образное) и экспр. (экспрессивное). Помета образн. встретилась один раз: обсиротать ‘обеднеть’. Помета экспр. в основном маркирует глаголы с семой, отражающей ги-перболизованное действие, процесс, признак, эта сема вербализуется с помощью метатолкований в большом количестве, много (например: метать (4-е знач.) ‘есть в большом количестве’, охлестывать ‘пить в большом количестве’), либо синонимов (разгузыниться ‘рассердиться, разворчаться’), либо описательно, а также контекст раскрывает содержание слова с такой семой (принабуркаться ‘собраться, скопиться’ (в большом количестве. - Н. Л.): А для -ради Сергея и суседей позвала... Уж полна изба принабуркалася (с. 125)). Редко встречается помета экспр. при словах иных частей речи, например: безодежный экспр. ‘бедно одетый, не имеющий нужной одежды’: Шли за тем тунгусом, служа государю наспех без -одежны (с. 9). Однако материалы СРНДРС демонстрируют огромное богатство образных экспрессивно нейтральных и экспрессивно маркированных лексических единиц, которые использовались в обыденной речи сибиряков 2.
К образным экспрессивно нейтральным словам и синлексемам относятся номинации с прозрачной внутренней формой. Общеизвестно, что слово возникает на основе чувственного, эмпирического, восприятия предмета; «оно есть отпечаток не предмета, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе» [Гумбольдт, 1984. С. 80]. Этот образ и есть внутренняя форма слова. А. А. Потебня писал: «Слово выражает не все содержание понятия, а один из признаков, именно тот, который представляется народному воззрению важнейшим … Внутренняя форма такой номинации служит опознавательным знаком выражаемого им понятия, или “образом значения”» [Потебня, 1910. С. 247]. Образные неэкспрессивные номинации: горбуша ‘род косы’ (изогнутое в форме горба лезвие; горбушами косили в наклон), переходня ‘трап, сходня’, лука ‘изгиб, излучина’, глухоморье букв. глухое море, видимо, далекое-далекое место (ассоциация с фольклорным текстом: «за морями, за лесами, за высокими горами...»), в СРНДРС при этом слове вместо толкования приведен структурный аналог: ср. луко-морье (ср. контекст: Из - за моря, моря сине -ва, Из глухоморья зеленова, От славного города Леденца, От того - де царя ведь за -морского Выбегали - выгребали тридцать кораблей (с. 29)), душка ‘мех с горла и груди животного’, верхник ‘фартук’ (надевавшийся сверху одежды), выпахиваться ‘становиться истощенной в результате ежегодной пахоты (о земле)’, жаркой ‘оранжевый’, подковыривать лапти ‘вплетать в лапти что-либо для крепости, прочности’ (исходный образ современной метафоры подко-вырнуть ‘уколоть, съязвить, поддеть, поймав кого-н. на слове, воспользовавшись ошибкой’ и производного существительного подковырка), разрозниться ‘разделиться’; весновать, летовать, осеновать ‘проводить где-либо весну / лето / осень’ (только глагол летовать сохранился в говорах), завесно- ваться ‘остаться где-либо на весну’, изго-ловь ‘конец острова, горы, озера и т. п.’, изгоном ‘тайно, неожиданно’, изгоня ‘притеснение, обида’, дивоваться ‘удивляться, дивиться чему-либо’, дикий лес ‘старый, сухой лес’, поднять нужу ‘вынести испытания’ и мн. др.
В образных номинациях запечатлены представления наших предков о природе, земле, труде, взаимоотношениях между человеком и природой, между людьми.
Образная номинация способна выразить целую концепцию в обыденном сознании человека. Приведу примеры.
Глагол обкорениться / окорениться ‘обосноваться, устроиться’ обобщает смыслы, выражаемые рядом других глаголов: осе -литься ‘поселиться, обосноваться’ (обычно на новом месте), построиться, завестися ‘обзавестись’ (хозяйством) (Написано, чтоб им... дворами своими построиться и ло -шадьми и рогатым скотом завестись (с. 43)), пороспространиться ‘увеличить пашню’ (...и крестьяне окоренилися, и паш-ни пороспространились (с. 118), иначе говоря, глагол обкорениться / окорениться букв. означает ‘прорасти в землю’, ‘пустить корни’, а также, скрытый переносный смысл ‘продолжить род’, репрезентируя концепцию о прочности семейного уклада, необходимости продолжения рода. Не случайно в СРНДРС немало языковых единиц, эксплицирующих такие смыслы, как:
-
• ‘родня, родственники’, ‘находиться в родственных отношениях’, например: ряд синонимов и квазисинонимов родимцы, родники, сродичи, сродники, сродственники; собират. род, племя ‘родня, родственники’, синонимы сродство, племенство ‘родство’, род - племя; во племени, со племяни, во пле -менстве ‘о людях, находящихся в родственных отношениях’;
-
• ‘соборность’, ‘вместе, сообща’, ‘дружить’, ‘помощь’, ‘помогать’ и т. п.: соопча, вскопе (В то де время Бирюльские волости пашенные крестьяне были у него, Мишки, в избе все вскопе для совету (с. 24), всем ско-пом, посполу, в гурьбе (жить), друг по друге ‘друг за друга’, копиться ‘скапливаться, собираться (о людях)’ (На Невье в поле зби-раютца вогуличи вместо со все скопом и з женами и з детьмия. А про то де на Невье русские люди думы в них не ведают, для че-го они вместо копятца (с. 63)) , сжидаться ‘ждать друг друга, собираться (вместе)’
(Сжидаться всем и итить вместе, а не врозь (с. 141)), соединачиться ‘соединиться, объединиться с кем-либо’, приветываться ‘устанавливать с кем-либо дружественные отношения’, а также товарищи / товарыщи и братья / братье - ‘о людях, занимающихся каким-нибудь общим делом, наша бра -тья - о людях одного рода занятий, социального положения и т. п. с говорящим, челобитчиком’ (Милостивый царь государь, вели нашим товарищам по старым юртам, о которым преж сего живали по дороге; В тех прошлых годех иные наша братья были скотны и богаты, а топеро стали бедны и безскотны ... (с. 13)); ‘помощь, помогать’, синонимические ряды существительных подмог / подмога, помочь / под -мочь, пособь, помогательство и глаголов подмогать, пособить, пособлять, пору -чить, прилагательное подможный ‘относящийся к подмогу, подмоге’. В челобитных государственных крестьян постоянно присутствует мысль их авторов о необходимости заниматься хозяйством, хлебопашеством, выполнять другие повинности сообща, а не порозну ‘по отдельности, порознь’, врозь не разбрестися (c. 97) и не огурятца ‘не отлынивать от работы, уклоняться от службы, от выполнения каких-либо обязанностей, повинностей’ (с. 92). В хозяйство покручали ‘нанимали кого-либо (на работу), снабжая его всем необходимым, беря его на свое содержание’, они назывались покру-ченниками ‘работники, находящиеся на хозяйском содержании’ и покормленниками ‘приемные работники; воспитанники’; были и детеныши / детенышки ‘дворовые, работающие по найму в монастырской вотчине’.
С концепцией о прочности семьи, семейных и родственных уз, взаимопомощи связано противоположное представление - об одинаком человеке, не имеющем семьи, родственников, одиноком как о сироте, увеч-ном, неспособном вести хозяйство: Одина -кому человеку в пашне быть нельзя; И мне, сироте твоему, пашенная работа невмочь, потому что я, сирота твой, человеченко увечной, одинакий, бездетной (с. 92). Как видим, труд и семейные, братские узы были важными ценностными ориентирами жизни наших предков;
-
• отношение к труду, к земле. Целый ряд слов актуализирует почтение к крестьянскому труду и земле-кормилице крестьян.
Может быть, это субъективное восприятие, но для меня глагол обряжать ‘убирать (хлеб)’ передает благоговейное, почтительное отношение к крестьянскому труду (возникают ассоциации с диалектными словосочетаниями обряжать невесту и обряжать умершего – готовя невесту к венчанию, к новой жизни или собирая умершего в последний путь, выражать почтение, уважение, любовь); убирать хлеб, значит, и ‘приводить в порядок’ (поле, землю) для следующей пахоты – эта же сема в семантике слов ряд, рядок, рядки в поле (в речи современных сельских жителей), порядок. Земля, как и человек, родит ‘даёт плоды’ (не случайно тот же корень в урожай), хлеб родится – отсюда и неродной ‘неплодородный’; земля выпахивается ‘становится истощенной от ежегодной пахоты’ (ассоциация с выражением человек выбаливает ‘становится физически слабым, худым, истощенным’ – в современных говорах): Та земля выпахивается ; когда тое землю наво зом навозим , тогда и посееной хлеб родится (с. 27), отсюда словосочетание выпашная земля ‘земля, истощенная в результате ежегодной пахоты’, значит, как за человеком, так и за землей нужен уход . А бедность, нищета ассоциировались нашими предками с сиротством: обсиротать / осиротать ‘обеднеть’: Должал и обсиротал великими кабальными неоткупными долгами (с. 92); На старых землях хлеб не родится (с. 53). Синоним глагола обсиротать – обскудать ‘обнищать, обеднеть’.
Яркую внутреннюю форму имеет слово обрушница ‘невеста; та, кто обручена’ (вероятно, употреблялся и вариант обручница). В говорах Новосибирской области обручни - цей называли девушку после сговора ее родителей с родителями будущего ее жениха, когда соединяли руки жениха и невесты в знак того, что теперь они обручены, а родители жениха и невесты ударяли по рукам, договорившись о свадьбе и о приданом. Конечно, такая интерпретация основана на сведениях о свадебном обряде и соответствующих номинациях, которые зарегистрированы в дискурсе носителей современных сибирских говоров. Но в том и состоит ценность материалов и исторических словарей, и современных говоров, что они помогают воссоздать обычаи и традиции материальной и духовной культуры русского населения Сибири.
Окосматить ‘сорвать с женщины головной убор и тем самым нанести ей оскорбле-ние’(c. 94). Обычаем домашнего уклада в прошлом было обязательное повседневное ношение замужней женщиной головного убора. Одним из этапов свадебного обряда в Сибири было окручение невесты, когда ее повязывали (окручали) платком, косынкой (диалектный вариант косинкой) или надевали специальный головной убор (например, файшонку / фальшонку – в говорах Новосибирской области) как знак того, что она становится женщиной, хозяйкой в доме, а ходить косматкой, ходить космачом считалось позором для женщины. Глагол окос - матить, сохранившийся в сибирских говорах, очень точно и ярко передает не только соответствующее действие, но и негативную оценку и такого действия, и нарушения бытовой нормы, обычая: считалось позором, если замужняя женщина ходила без головного убора, она подвергалась осмеянию. А в характере русского человека всегда была такая черта, как пошутить, посмеяться над кем-либо или чем-либо. Нередко подсмеивались над невестой прямо во время свадебного застолья дружки того парня, которому она отказала выйти за него замуж, или была неверна своему жениху до свадьбы, и об этом знали. Семантика глагола окрутить стала исходной для современного разговорного экспрессивного значения ‘ввести в заблуждение, обмануть кого-н.’
В семантике слов полуденный ‘южный’ и полуношник ‘север’ совмещаются семы пространства и времени – обозначение пространственных понятий через временные ассоциации как отражение народного представления о юге (южном) как о тепле, свете, дне, а о севере – холоде, темноте, ночи. Подобные наблюдения также важны с точки зрения выявления фрагментов картины мира, связанных с пространством и временем. Наверное, это не единственные примеры в СРНДРС, демонстрирующие совмещение пространственных и временных представлений в картине мира наших предков, но они не лежат на поверхности, и требуется более полный и более глубокий анализ контекстов.
Не утратили, с моей точки зрения, яркости, свежести образы и во многих других словах, к сожалению, навсегда ушедших из нашего языка или сохранившихся лишь в некоторых диалектных системах. Приведу несколько примеров: глагол разметываться ‘распускаться’ (о деревьях) образно, ярко, точно передает представление о бурно распускающихся на деревьях листьях; прилагательное виловатый ‘развесистый, имеющей раздвоенный ствол’ (виловатые березы), букв. похожий на вилы (в современных говорах Новосибирской области употребляется семантическая метафора – виловатый мужик, парень); разрозниться ‘разделиться’; весновать, летовать, осеновать ‘проводить где-либо весну / лето / осень’.
Выявить экспрессивные номинации, которые употреблялись в речи наших далеких предков, гораздо труднее, чем образные неэкспрессивные слова, хотя, замечу, граница между экспрессивными и неэкспрессивными образными номинациями очень зыбкая, и это видно в некоторых приведенных примерах (окосматить, разметываться, изго - ном, изгоня). Для этой цели необходима опора не только на метатолкования вокабул, но и на контексты их употребления в письменных памятниках. Однако контексты в СРНДРС, как, впрочем, и в других исторических словарях, далеко не всегда достаточно полно и точно раскрывают актуальный смысл слов, тем более эмоциональную сферу сознания человека. Тем не менее материал СРНДРС показывает, что когнитивные механизмы порождения экспрессивных номинаций в прошлом и современные в принципе одни и те же, и два основных из них – это семантическая и словообразовательная метафоризация.
Семантических метафор-лексем, основанных на переносе наименования из сферы «источник» в сферу «мишень», в составе словника СРНДРС немного, гораздо больше их среди устойчивых словосочетаний и фразеологизмов, например: деловая пора, гулящие люди, взять в ум ‘подумать, вообразить’, вино горячее ‘водка’, идти голодом ‘голодать в пути’, отойти от смерти ‘избавиться от смертельной опасности, миновать смерть’, по сердцу ‘по злому умыслу, со зла’, поднять нужу ‘вынести испытания, выжить’ и др. Интересны, с моей точки зрения, примеры интерференции – большая жена ‘старшая жена’ у представителей коренных народов Сибири (И приехал Меньшой х Контайше в улус к большой жене на урочище на Исют (с. 41)). Появление в речи русского населения нового словосочетания для обозначения сугубо местного понятия было обусловлено тем, что прилагательное большой уже имело вторичное метафорическое значение ‘старший’ и употреблялось в этом значении как в материнских, так и сибирских говорах. Ср. в этом же словаре большой (меньшой) брат, большина ‘первенство, старшинство’, а также в современных сибирских говорах различных регионов большуха ‘старшая сестра, невестка’.
Словообразовательных метафор очень много в СРНДРС. В отличие от семантических метафор, словообразовательные метафоры создаются в процессе словообразования как результат либо транспозиции образа из производящего слова в производное (например, неверка ‘подозрение’ ← не верить ‘подозревать’, подглазница ‘впадина на лице под глазом’ ← (находящийся) под глазом), либо образного переосмысления семантики производящего слова, которое часто сопровождается порождением «экспрессивного эффекта» (выражение В. Н. Телия) в результате развития сем интенсивности и / или эмотивной оценки, а также выразительности (яркости, красочности, необычности, уникальности, парадоксальности). Приведу примеры словообразовательных метафор из СРНДРС: докука ‘усиленная просьба, под - корыстоваться ‘поживиться’, всполох ‘тревога’, впотаях ‘тайно’ и др. Кроме того, в нем немало экспрессивных номинаций, образованных способом удвоения слов, например: взять взятьем ‘захватить силой’ (Божиею милостию и государьским сча стьем один острожек взяли и убили в том острожке лутчих людей 20 человек и иные острожки взятьем взять не могли (с. 19)), держи держать (из контекта трудно вывести смысл этого словосочетания. – Н . Л . ) (А ехать ему ис Тутурской слободы в Ылимск и обратно … на своем коште . А живучи в городе Илимску всякие держи держать наши , народские (‘общественные’) , и пить и есть ему , также и лошаде , его в городе Илимску наше же , народское (с. 82)), дань давать ‘платить дань’, жить житьем ‘проживать // обитать’ (И в той же , государь , в вотчине их живьем жи вут и лесуют звери (с. 43)), клик кликати ‘звать, призывать’, тьмы тьмами ‘очень много (о людях)’, поздым поздо ‘очень поздно’ и др.
«Экспрессивный эффект» порождают глаголы многократного способа действия – прошедшего времени несовершенного вида с суффиксами -в(а) (бывал) и -ив(а)/-ыв(а) (без этих суффиксов только один глагол – едать).
СРНДРС демонстрирует широкий круг таких глаголов, причем Л. Г. Панин регулярно ставит при них в скобках помету не -однократно: бивать, бирывать, бранивать, важивать, веливать, вынимывать, гани-вать (ямскую гоньбу), говаривать, горажи-вать, грабливать (Государевых ясашных людей не бивал, и не грабливал, и к себе их в улус не важивал (с. 31)), граживать ‘грозить, угрожать’, добывывать, давывать, едать, живать, езживать, заменивать, заставливать, имывать, кашивать, коче-вывать, крадывать, ламывать, маливать, маливаться, молачивать, наезживать, на -шивать, неваживать ‘ловить рыбу неводом’ , обедывать, обнашивать, пахивать, побивывать, приваживать, принашивать, присылывать, составливать, таптывать, хаживать, хачивать ‘хотеть’, чищивать и др. Замечу, что «Словарь русского языка XI–XVII вв.» также фиксирует большое количество таких глаголов, это свидетельствует об активном их употреблении в прошлом, особенно, как отмечают некоторые лингвисты (В. В. Виноградов, Е. Н. Прокопович), в XVI–XVIII вв. 3 По своей благозвучности многократные глаголы относятся к образноэкспрессивному лексическому фонду, о чем писал еще Ф. И. Буслаев. Следовательно, в речи сибиряков XVII – первой половины XVIII в. категория глаголов многократного способа действия была функционально активной и лексически не замкнутой. Дальнейшая ее эволюция связана с процессом вытеснения их формами несовершенного вида, лексической и стилистической замкнутостью, а смыслы ‘многократно’ и ‘в большом количестве’ выражаются наречиями (многократно, часто, постоянно, регулярно, много и др.) и словосочетаниями (много раз, в большом количестве и др.). К сожалению, в системе современного языка, литературного и разговорного, эта категория глаголов почти утратилась, кроме отдельных глаголов, которые употребляются преимущественно в художественном дис- курсе. Они еще остаются в диалектных (в основном северно-русских) системах, а также в сибирских говорах с севернорусской диалектной основой, но ограничены лексически (бывать, делывать, думывать, нашивать, певать, хаживать и некоторые др.) и стилистически – в основном в жанре воспоминаний о прошлом диалектоносите-лей старшего возраста.
Подобная судьба постигла и глаголы с префиксами из - /ис - , - за - , - по - , - про -, которые, присоединяясь к приставочному глаголу, порождали двуприставочные глаголы с семантикой усиленного (интенсивного, гиперболизованного, большого по количеству вовлекаемых в процесс объектов) действия. Немало таких глаголов фиксирует СРНДРС, особенно с префиксом из - /ис - : иззаделать ‘заделать прочно, наглухо’, из -задолжать ‘задолжать много, быть кругом в долгах’, иззакабалить ‘отдать в кабалу всех или многих’, иззапоручить, иззапро-дать, изукрасить, испереранить ‘ранить всех или многих; изранить полностью’ (Имы, холопи твои, ходили, и на имке (‘поимке’) нас, холопей твоих, многих исперера-нили да убили до смерти служилого челове-ка Микиту Лобана (с. 56)), исподколоть ‘поколоть во многих местах’, испровертеть ‘провертеть, просверлить во многих местах’, испроесть ‘проесть полностью’, ис-пристать ‘сильно устать’, испроломать ‘проломить во многих местах’, испро -стегать ‘избить, стегая чем-либо’, ис-проторговаться ‘распродать все, торгуя’, пороспространиться ‘расшириться, распространиться’ (о пашенной земле), и др.
Глаголы многократного способа действия и двуприставочные глаголы демонстрируют тенденцию экономии речевых усилий, следствием которой является экспрессивность, благозвучность таких глаголов и в целом выразительность речи.
Таким образом, вышеназванные механизмы порождения экспрессивных номинаций демонстрируют преемственность в развитии экспрессивного лексического и фразеологического фондов русского языка, а также и определенную общность этих фондов в исторически разные времена.
В картине мира наших предков экспрессивные номинации, антропоцентрические по своей семантике, служили средством образного обозначения и выражения негативной оценки таких качеств человека, как:
-
• непостоянство, хитрость, коварство , плутовство, лукавство, лживость, ложь, обман: перелестивый и перепадчивый ‘непостоянный, изменчивый’, затейный ‘злоумышленный’ (А мы, холопи твои, от него, Мишки, затейной его смуты, коварства, явного его лукавства и плутовства с совет -ники его оболганы напрасно (с. 49)); враки ‘ложь, выдумки, вранье’, шишиморство предосудит. ‘вранье, навет’, взлыгаться / влыгаться ‘ложно называться кем-либо’, пролгаться ‘оказаться ложным’, оболгать ‘обмануть’ (Анна Дмитриева дочь чело -битьем своим оболгавшее архипастырское благословление (с. 89)), наговорить напрас-ну, бездельные слова (оглашать бездельны -ми словами); строить козни затевать ложные заводы (Тот Данилко воровал, на свою братию шишиморством всякие лож -ные завды затевал и безделием оглашал (с. 49));
-
• нечестность, воровство, грабеж, взяточничество: корыстоваться ‘извлекать выгоду, пользуясь чужим, недозволенным’, подкорыстоваться ‘поживиться’, перегра-бить ‘ограбить всех или многих’, грабежом грабить, наглоимец ‘дерзкий, нахальный взяточник’, посул ‘взятка’;
-
• лень: огурник ‘уклоняющийся от выполнения каких-либо обязанностей, повинностей’, огуряться ‘отлынивать от работы; уклоняться от службы, от выполнения какой-либо работы’, то же отбывать / от -быть, избыль и в избыли быть ‘уклоняться от пошлины, платежей повинности’;
-
• пристрастие к спиртному: бражник, бражничать ‘пьянствовать’, охлестывать ‘пить в большом количестве’, питух ‘человек, пьющий вино, водку’;
-
• драться, озорничать, безобразничать: оплести ‘дать оплеуху’ (Молоды Василей стал драку разнимать, А иной дурак зашел с носка, Его по уху оплел (с. 95)), дуровать;
-
• разбой, грабеж: шкота;
-
• ругать, ругаться, бранить, браниться: лаять, излаять;
-
• упрямство: озадориться (...Втапоры Дунай (собственное имя. - Н. Л. ) озадорелся И стрелял в примету на целу версту в золо-то кольцо (с. 93));
-
• блуд, разврат: блудец и гузноблудец -о развратном мужчине, волочайка ‘потаскушка, распутная женщина’, курва бран. ‘распутная женщина’, иссильничать блуд -ным воровством, еретница бран. ‘безбож
ница, еретица’ (очевидно, речь идет о блуднице, ср. контекст: Сшибла она с резвых ног, А и топчет ее по белым грудям, Сама она Марину больно бранит: “ А и, сука, ты... еретница!.. ” (с. 41));
-
• негативное отношение к незаконнорожденному ребенку: выблядочек уменьшит., бран. (А что это у нас за урод рас -тет ? Что это у нас за выблядочек? (с. 25));
-
• потворствовать кому-либо в чем-либо: поноровка ‘поблажка, потворство’, пота -ковник ‘потакатель, приспешник’, притаки-вать ‘соглашаться; поддакивать’ (И он, Петр, сам их наставливал, преж их сам научал говорить. А оне, государь, по ево Петровым речам только лише притакивали (с. 126)), глагол дружить тоже употреблялся в значении ‘потворствовать’, причем одной из норм поведения (заповедей) было другу не дру-жить (т. е. не потворствовать), а недругу не мстить (с. 39));
-
• делать / сделать глупости, поступать / поступить необдуманно, опрометчиво: сду-ровать (... а иные де люди ево здуровали, что того царьского величества жалованья не приняли (с. 139));
-
• внешние признаки человека: долго -рожеват кратк. прил. ‘с длинным лицом’ (букв. с долгой рожей), кривой ‘одноглазый, слепой на один глаз’ (На тех де полатех спала подле него Паевина баба кривая (с. 66)), раскорякою (идти) ‘широко расставляя ноги, неуклюже’) и др.
Редки номинации, выражающие положительную оценку, например, передовщик ‘опытный промышленник, руководитель промысловой артели’ (ср. с советизмом пе-редовик (труда, производства)').
В составе экспрессивной лексики большое место занимают образные слова и фразеологизмы с семантикой интенсивности, т. е. выражающие высокую степень (гиперболизацию) признака, действия. Кроме маркированных в словаре пометой экспр. и приведенных выше слов (в том числе глаголов многократного способа действия и двуприставочных), назову еще несколько, не отмеченных автором как экспр.: метаться ‘бросаться’ (Ондрей Липин... приходит в острог с большим невежеством и з шумом и на казаков мечется с ослопы; Турки... в сине море металися (с. 74)), вывоевать ‘разрушить, опустошить войною’, выметы-вать ‘выбрасывать’ (Тот жемчуг, которой волнами морскими выметывает из моря на песок (с. 27 )), выпустошить ‘опустошить’ (И вотчину государеву всю выпустошил (с. 27)), ломиться ‘пытаться проникнуть куда-либо с силой’, ободрать ‘обобрать; отнять силой (одежду)’, содрать ‘снять (одежду) рывком’, звукоподражательные экспрессивы гарк ‘шум’, голк ‘гром, грохот’, грянуть (этот глагол сохранился в современном языке), гургать ‘стучать, греметь’, гунуть ‘внезапно, с силой раздаться, зазвучать; грянуть’ (...В три пушечки гунули, а ружьем вдруг грянули (с. 32)). Довольно много в СРНДРС фразеологизмов и тавтологических номинаций с подобным значением: выводить с ума ‘лишать рассудка, доводить до такого состояния, когда человек лишен возможности контролировать свои поступки’, голосами плакать ‘горько плакать’, ногота и босота ‘полнейшая нищета’, поздым-поздо, тьмы тьмами и др.
Не все приведенные в качестве примеров лексические единицы можно бесспорно интерпретировать как экспрессивные. Дело в том, что, во-первых, провести грань между экспрессивными и неэкспрессивными словами, устойчивыми словосочетаниями очень трудно даже для современного дискурса, а уж тем более для дискурса ушедшей в прошлое эпохи; во-вторых, письменная, а тем более деловая речь, представленная в СРНДРС, нейтрализует, снимает эмоциональный тон письменного высказывания (контекста), и оно перестает выражать те эмоции и эмоциональные оценки, которые, несомненно, хотел воплотить или воплощал пишущий в своей челобитной. Бесспорно экспрессивными являются слова с формальными (словообразовательными) показателями экспрессивности: существительные с суффиксами субъективной оценки, двуприставочные глаголы и глаголы многократного способа действия прошедшего времени с суффиксами -ив (а) / -ыв(а) , а также семантические метафоры при наличии первичного значения. Что касается словообразовательных метафор, то их экспрессивность не столь очевидна. Сама по себе образность, свойственная словообразовательным метафорам, не всегда порождает «экспрессивный эффект», поэтому не исключены субъективные интерпретации.
Итак, на материале образной и экспрессивной лексики одного из исторических словарей в общих чертах прослеживается концепция русского человека эпохи форми- рования русского языка (русских говоров) в Сибири в ХVII – первой половине ХVIII в. Главные человеческие ценности и заповеди, которым следовал русский человек: труд, работа, семья, родственные узы, соборность, взаимопомощь и дружественные отношения, честность, постоянство, живи не во лжи, не воруй, не бери взяток, не пей, веди достойный образ жизни, не потакай плохому. Поскольку ты являешься подданным по своему социальному статусу (подданец), выполняй исправно все повинности, плати вовремя подать, оброк (это была обязанность государственных, пашенных кресть-ян), служи верно государю, защищай от неприятелей свой «малый дом» – острог, слободу, город и «большой дом» – государя, отечество (это была обязанность служилых людей). Кстати, репрезентанты (отдельные слова, устойчивые выражения, контексты) концептов война и защита довольно многочисленны и частотны в материалах СРНДРС, например: теснота ‘притеснение, угнетение’ (которое испытывали русские люди от кочевников), война, быть войною ‘cовершать военные нападения’, итить войною, воинские люди ‘воины’, воистый ‘воинственный’, войское ‘войско’, воевать, воеваться, вывоевать ‘разрушить’, лучный бой, служилые люди, государевы ратные люди, оборечь ‘оберечь’, оборонить ‘защитить’, оборониться ‘защититься’, оборонь ‘защита’, оборонять ‘защищать’, береженье ‘охрана, защита’, бороняться ‘обороняться, защищаться’, неприятели, посягавшие на независимость русских в Сибири, - калмыц-кие люди, киргиские люди, монгольские лю-ди, мугальские люди, татарские люди, та -тарове / тотаровя / татаровя, поганые и др. (Казаки... нападоша на поганых, и би -шася с ними крепце до полудни. И отсту-пиша тотарове (с. 157)), куляшиник ‘воин в панцире’ и др. В этих войнах с кочевыми сибирскими племенами вырабатывался, закалялся стойкий, мужественный характер сибиряков, о которых даже неприятели говорили, что русские - крепкие люди.
Более широкое (чем это имеет место сейчас в работах по исторической лексикологии) привлечение образных и экспрессивных единиц к исследованию словарного состава старорусского языка было бы целесообразным для воссоздания картины мира и менталитета носителей русского языка ушедших в прошлое эпох.
FIGURATIVE AND EXPRESSIVE NOMINATIONS AS REPRESENTANTS OF WORLD VIEW AND MENTALITY OF RUSSIAN SIBERIAN DIALECT SPEAKERS
DURING THEIR PRIMARY FORMATION PERIOD