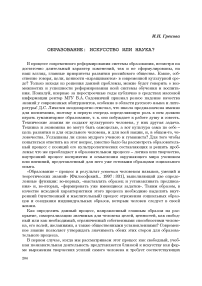Образование: искусство или наука?
Автор: Грекова Ирина Николаевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается проблема соотношения внутреннего индивидуального и внешнего социального процессов восприятия реальной действительности и форм их проявления посредством логики и искусства.
Процесс восприятия действительности, познание, образование как познание действительности
Короткий адрес: https://sciup.org/144152833
IDR: 144152833
Текст научной статьи Образование: искусство или наука?
В процессе современного реформирования системы образования, несмотря на достаточно длительный характер изменений, так и не сформулированы, на наш взгляд, главные приоритеты развития российского общества. Какие, собственно говоря, цели, ценности «взращиваются» в современной культурной среде? Только исходя из решения данной проблемы, можно будет говорить о возможностях и успешности реформирования всей системы обучения и воспитания. Пожалуй, впервые за перестроечные годы публично в средствах массовой информации ректор МГУ В.А. Садовничий признал резкое падение качества знаний у современных абитуриентов, особенно в области русского языка и литературы! Д.С. Лихачев неоднократно отмечал, что школа предназначена именно для воспитания, поэтому в первую очередь определяющую роль в нем должно играть гуманитарное образование, т. к. оно побуждает к работе душу и совесть. Технические знания не создают культурного человека, у них другая задача. Техника и экономика не могут быть самоцелью, а вот культура сама по себе – цель развития и для отдельного человека, и для всей нации, и, в общем-то, человечества. Услышаны ли слова мудрого ученого и гуманиста? Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, уместно было бы рассмотреть образовательный процесс с позиций его культурологических составляющих и решить проблемы: что же преобладает в образовательном процессе – логика или творчество, внутренний процесс восприятия и осмысления окружающего мира учеником или внешний, представленный для него уже готовыми образцами социального опыта.
«Образование – процесс и результат усвоения человеком навыков, умений и теоретических знаний» [Философский... 1997 : 331], выполняющий две определенные функции: во-первых, «выставлять образец и устанавливать предписания» и, во-вторых, «формировать уже имеющиеся задатки». Таким образом, в качестве исходной характеристики этого процесса необходимо выделить внутренний (чувственный и мыслительный) процесс отражения социальных образцов и созидания индивидуальных образов, которым человек следует в своей жизни.
Как определить данный процесс, направленный главным образом на раскрытие, самореализацию значимых для человека целей, ценностей, как свободный или как необходимый, ограниченный собственными способностями человека, его волей, желаниями, а также общественными установлениями? Современное знание позволяет утверждать значимость обеих этих сторон для образовательного процесса.
В первом случае, когда мы рассматриваем этот процесс как свободный, учебная познавательная деятельность представляется близкой к искусству как форме выражения творческих усилий самого человека и требует соответствующих способов и методов самореализации. Например, использование интуиции, воображения как основы творческой деятельности, самостоятельного выбора предмета исследования, формы и специфики метода, неограниченного формально временем (определенным количеством уроков или часов), необходимым для создания новых образов. Базовым элементом такой деятельности является индивидуальный опыт человека, представленный чувственной и рациональной сторонами, с помощью которых познающий субъект отражает, фиксирует, перерабатывает многообразие реальных или воображаемых связей окружающего мира. Множество людей, оказавшись в схожих обстоятельствах, отразят данные связи с индивидуальными особенностями: будь это оттенки цвета, запаха, вкуса, проявление разнообразных эмоций, многочисленные формы словесного выражения. «Оказывается, что все данные, на которых основываются наши выводы, являются по своему характеру психологическими; это значит, что они являются опытами отдельных индивидов. Кажущаяся общественность нашего мира является частично обманчивой и частично выводной; весь сырой материал нашего познания состоит из психических явлений жизни отдельных людей» [Рассел 2000 : 63]. Предметы, явления, процессы, впервые отражаемые человеком, представляются ему как новые, даже если исторически они хорошо известны человечеству. Ребенок, впервые познающий мир конкретных понятий (например, «дерево» и «собака»), будет различать их только в звуковом отношении, но не в содержательном, пока не раскроет их сущностные характеристики и не произведет отождествление с реальными объектами окружающей действительности. Тогда это потребует от него самостоятельного, внутреннего, творческого осмысления сути образов, предметов и возможностей их применения. Позволяет ли, таким образом, классическая система образования с его ограничениями практически по всем параметрам рассматривать образование как искусство? Форма урока – ограничение по времени и средствам. Стандарты образования – ограничения по содержанию и количеству предметов, проблеме, глубине, инициативе… Творчество – процесс интимный, а не программируемый, что доказывается судьбами, успехами и неудачами множества мыслителей, художников, поэтов. Как оно может учитываться в формализованной образовательной системе? «Плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Чем более мы глядим, тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение». Поэтому «показывать глазу … предельную точку аффекта – значит связывать крылья фантазии и принуждать ее…» [Фейнберг 2004 : 169].
Исторически не внутренний, а внешний процесс создания образов и образцов политической, религиозной, экономической и других систем учитывался как определяющий и при формировании образовательной системы, а именно как способ сохранения и передачи наиболее значимых ценностей социального опыта последующим поколениям. Поэтому, отмечал Сеченов, человечество снимает с человека тяжкий труд «собственного дознания» истины, заменяя его уже готовыми внешними образцами.
Философия
Таким образом, современная школа хоть и декларирует преимущество внутреннего индивидуального опыта над внешним социальным, но в образовательном процессе формальных и содержательных оснований для этого еще очень мало.
Можно, следовательно, предположить, что именно вторая составляющая образовательного процесса как необходимость в логической дискурсивной форме представлена в виде определяющей в современной системе. Так ли это?
Основу логического дискурса составляет абстрактное мышление как средство постижения истины. Как этот процесс представлен в образовательной системе? Как самостоятельный, а значит, свободный мыслительный процесс обучающегося, или как результат мыслительной деятельности людей в историческом процессе? В первом случае, очевидно, нужно анализировать и обобщать собственный процесс мышления. Тогда усилия педагогов и учеников должны быть направлены на изучение самого процесса мышления и его индивидуальных особенностей проявления (что реально осуществляется только в вузах в рамках изучения психологии при минимальном количестве часов на непрофильных факультетах). Создается ли в образовательной модели возможность постоянного рефлектирования с тем, чтобы человек отличал высказывание «Я же думаю», которое является словесной формой выражения социального опыта, от высказывания «Я думаю, потому что я могу объяснить, почему я думаю так». В этом случае мы тоже встречаемся с творчеством, но уже осознанным, а не интуитивным.
Если мы рассмотрим образовательный процесс как результат мыслительной деятельности людей в историческом развитии, то увидим, что определяющую роль будет играть социальный опыт человечества. В качестве примера такого социального опыта можно вспомнить Аристотеля, который для объяснения и систематизации логического мышления создал науку, известную уже 2, 5 тысячелетия. Но известны ли знания этой науки конкретно Петрову, Иванову, Сидоровой? Их отсутствие мы можем заметить даже в студенческой среде. Зачем же мучился мудрец-философ, желая помочь человечеству обрести надежное, верное, но достаточно сложное в процессе приобретения истины средство. С одной стороны, это ведь тоже социальный опыт, требующий передачи последующим поколениям. Почему же он не востребован? Потерял свою актуальность, устарел? Вряд ли.
Рационализация мышления с XVII–XVIII вв. связана непосредственно с производством, техникой, и этот процесс не просто не замедляется, а все более ускоряется, усложняется, а значит, и востребован в практической деятельности человека, не говоря уже о научной. Изучая глубокие основы конкретных наук, мы не исследуем совсем или исследуем в очень незначительной степени сам процесс овладения знанием, считая, видимо, это интуитивным или само собой разумеющимся. Вопрос «почему?» сохраняет значимость в образовательных учреждениях только в рамках социально установленной логической связи, все остальное отбрасывается как лишнее и не анализируется, не переводится в рефлективный план сознания. Например, анализируя собственный индивидуальный опыт, автор приходит к выводу, что жалость замедляет развитие человека, так как чувство вины перед другими заставляет его постоянно оглядываться назад. Ребенок, восприняв прочувствованный автором опыт как тезис, применяет его уже не в плане собственного нравственного терзания и искания, а как руководство к действию: безжалостность к нищим, старикам, беспомощным.
Не кроется ли ответ на противоречие между формами индивидуального и социального опыта в сложности, неоднозначности мыслительного процесса, который внешне проявляется в результатах общественного познания, полученного на разных этапах исторического развития и обнаруживаемого как результат деятельности человечества, а потому скрытого как процесс становления, говоря философским языком, являемого инобытием по отношению к видимым результатам. Но ведь мышление присуще в наглядно-образной и наглядно-действенной формах уже животным, поэтому является, по сути, естественным свойством для человека, как движение, речь, дыхание... Почему же оно столь сложно для него?
По-видимому, ответ на этот вопрос лежит в осознании самого процесса мышления, а значит, и в процессе овладения им, а не в восприятии готовых социальных образов. И если в искусстве этот процесс происходит интуитивно, как достижение воображаемого идеала, то в науке – посредством логического суждения. Однако в обоих случаях человек точно знает (осознает), что он хочет («Я хочу, потому что я могу объяснить, почему я хочу это»). Но образование, рассматриваемое как внешний процесс отражения реальной действительности и передачи опыта, будет опираться только на память. В этом случае, признавая существование метафизического абсолюта (Творца, Духа, Разума), мы можем его повторять. При противоположном восприятии образ необходимо создавать самостоятельно, поэтому творчество как индивидуальный процесс получения знания возможно только в становящемся, развивающемся мире. Следовательно, и образование есть процесс созидательный в том случае, если оно не ставит перед собой задачу повторения пройденного.
Таким образом, образование должно стать процессом овладения собственными мыслями и образами.