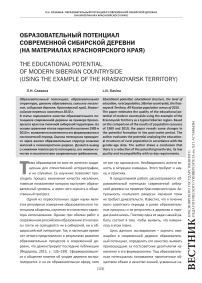Образовательный потенциал современной сибирской деревни (на материалах Красноярского края)
Автор: Славина Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогические науки. История образования
Статья в выпуске: 3 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье оценивается качество образовательного потенциала современной деревни на примере Красноярского края как типичной сибирской территории. На основе сравнения итогов переписей населения 1989 и 2010 гг. выявляются изменения в его формировании в постсоветский период. Оценка потенциала проводится через анализ образовательных структур сельских жителей в половозрастном разрезе. Делается вывод о снижении темпов роста потенциала, его низком качестве и несоответствии современным требованиям.
Образовательный потенциал, образовательная структура, уровень образования, сельское население, сибирская деревня, красноярский край, всероссийская перепись населения 2010 г
Короткий адрес: https://sciup.org/144154154
IDR: 144154154
Текст научной статьи Образовательный потенциал современной сибирской деревни (на материалах Красноярского края)
Образовательный потенциал, образовательная структура, уровень образования, сельское население, сибирская деревня, Красноярский край, Всероссийская перепись населения 2010 г.
В статье оценивается качество образовательного потенциала современной деревни на примере Красноярского края как типичной сибирской территории. На основе сравнения итогов переписей населения 1989 и 2010 гг. выявляются изменения в его формировании в постсоветский период. Оценка потенциала проводится через анализ образовательных структур сельских жителей в половозрастном разрезе. Делается вывод о снижении темпов роста потенциала, его низком качестве и несоответствии современным требованиям.
Educational potential, educational structure, the level of education, rural population, Siberian countryside, the Krasnoyarsk Territory, All-Russian population census of 2010. The paper estimates the quality of the educational potential of modern countryside using the example of the Krasnoyarsk Territory as a typical Siberian region. Based on the comparison of the results of population censuses of 1989 and 2010, the paper reveals some changes in the potential formation in the post-soviet period. The author evaluates the potential analyzing the educational structures of rural population in accordance with the gender-age data. The author draws a conclusion that there is a reduction of the potential growth rate, its low quality and incompatibility with to-day requirements.
Т ема образования во всех ее аспектах традиционна для отечественной историографии, и не случайно. Ее изучение позволяет проследить процесс изменения качества населения, главным показателем которого выступает образовательный уровень, а через него оценить и общественный прогресс.
Одной из первостепенных задач науки является регулярное измерение образовательного потенциала общества, изучение его качества и характера использования. Однако при обилии работ о современном российском образовании эти вопро- сы почти не освещаются ни в сибирской, ни в общероссийской литературе. Так, в настоящее время нет четкого представления о результатах развития образовательных процессов в современной деревне, что демонстрируют последние публикации [Федорова, 2015, с. 135–139]. Сформировавшееся в обществе мнение об упадке деревни экстраполируется и на ее образовательную сферу, хотя не все так однозначно. Необходимость внести ясность в ситуацию очевидна. Этого требуют и наука, и практика.
В предлагаемой работе рассматривается образовательный потенциал современной сибирской деревни на примере Красноярского края. Актуальность «сельского ракурса» изучения темы не требует доказательств. Известно, что в течение всего советского периода и ранее образовательные процессы и их результаты в деревнях и городах различались. Поэтому одна из задач нашей ра- боты состоит в том, чтобы выявить, что измени- лось в этом плане.
Цель данного исследования – оценить имеющийся в современной деревне образовательный потенциал, определить его качество, выявить произошедшие за постсоветские десятилетия изменения в его формировании. Под образовательным потенциалом понимаются накопленные обществом объем и качество знаний, усвоенные на-
ВЕСТНИК
селением и отражающиеся в его образовательной структуре. Качество образовательной структуры измеряется, как принято, уровнем образования индивидов, который отождествляется с окончанием ими определенных типов учебных заведений – общеобразовательных и профессиональных.
Информационной базой исследования являются итоги последней Всероссийской переписи населения 2010 г. Они позволяют составить развернутое представление об образовательной структуре всего и экономически активного населения в половозрастном разрезе. Это самые «свежие» данные по изучаемым вопросам, поскольку сведения обо всех жителях конкретной территории «собирают» только всеобщие переписи. В качестве опорных данных используются результаты переписи 1989 г., которая подвела итоги развития образования в советский период. Сравнение переписных материалов, текущей статистики по Красноярскому краю и другим субъектам СФО позволяет считать ситуацию в красноярских деревнях типичной для всей Сибири.
Последняя всероссийская перепись населения проводилась через два десятилетия после распада СССР. За это время через общеобразовательную школу прошли два поколения учащихся, через вузы – четыре, а в сфере образования, как и в обществе в целом, произошли радикальные изменения. Их «след» четко проявляется в итогах переписи 2010 г.
После 1991 г. тенденции изменения уровня образования сельского населения в Красноярском крае были теми же, что и в целом в России. Они определялись общностью политических, экономических, социокультурных процессов, в принци- пе единой системой образования. В то же время край решал ряд образовательных задач, обусловленных местной спецификой.
Динамика образовательного потенциала деревни зависела не столько от состояния образовательной сферы, сколько от социальноэкономического развития общества в целом. Из комплекса влиявших на него факторов нужно назвать, прежде всего, демографический – уход из жизни малообразованных старших поколений, который повышал общие показатели уровня образованности населения деревни. Но одновременно оно «старело» – сокращался удельный вес лучше обученной молодежи, причем в крае быстрее, чем в среднем по России. Двойственно «действовала» интенсивная миграция. Как и прежде, из деревни уезжали в основном более образованные люди. Но встречный поток мигрантов тоже был масштабным и «нес» лиц с разным образованием, включая специалистов. Из многочисленных «образовательных» факторов достаточно назвать пагубные для слабозаселенного края попытки рационализации сельской образовательной сети и т.д. Но определяющим фактором выступали трудности в развитии экономики деревни, резкое сужение спроса на квалифицированную рабочую силу.
Перепись 2010 г. учла в деревнях Красноярского края 547 755 чел. в возрасте 15 лет и старше. Образовательный уровень большинства из них, по российским меркам, был весьма высоким. За двадцать постсоветских лет он еще подрос. Теперь 80,6% сельчан имели высшее и среднее, включая основное (или 7–8-летнее), образование, тогда как в 1989 г. – 69,0% (табл. 1) [Итоги…, 1990, с. 185–187; Тома…, с. 458–459].
Таблица 1
Образовательная структура сельского населения Красноярского края в 1989 и 2010 гг.
|
Годы |
На 1 000 чел. в возрасте 15 лет и старше имеют об |
разование |
|||||
|
высшее |
неполное высшее |
среднее проф. |
начальное проф. |
среднее полное |
основное |
начальное |
|
|
1989 |
45 |
7 |
145 |
248 |
245* |
206 |
|
|
2010 |
87 |
17 |
264 |
67 |
226 |
212 |
108 |
|
Для сравнения, 2010 г. |
|||||||
|
Города края |
239 |
51 |
339 |
39 |
182 |
98 |
44 |
|
Деревня РФ |
111 |
23 |
263 |
80 |
233 |
176 |
98 |
* Неполное среднее (7–8 классов).
За постсоветское двадцатилетие заметно изменилась образовательная структура красноярцев. Самым позитивным сдвигом в ней стал рост доли лиц с профессиональным образованием. Более трети сельчан – 36,8 % –получили высшее (8,7 %), неполное высшее (1,7 %) и среднее профессиональное (26,4 %) образование, тогда как в 1989 г. – 19,7 %. Еще 6,7 % прошли подготовку в ПТУ. Таким образом, к 2010 г. профессионально обученными стали 43,5 % взрослых жителей деревни. Но и этот показатель, вдвое превысивший аналогичный в 1989 г., по современным стандартам тоже низкий.
Образовательная структура профессионально подготовленной части сельчан стала разнообразнее. Группа лиц с высшим образованием не только выросла вдвое, но и пополнилась новыми категориями. Большинство группы (8,2 % населения) составляют специалисты, но уже появились, как в городе, бакалавры (0,3%) и магистры (0,2 %). Был также учтен 1 291 чел. (0,2 %) с послевузовским образованием (окончившие аспирантуру, ординатуру и т.п.) [Тома…, с. 458–459].
Степень распространения в обществе высшего образования ныне считается особо важным показателем, так как оно признано основой всей системы образования, начиная с дошкольного, главным социогенетическим механизмом развития общественного интеллекта. Именно количество лиц с высшим образованием относительно численности населения ЮНЕСКО определила как «коэффициент интеллекта» общества.
Сравнение итогов переписи 2010 г. с предыдущими показывает устойчивый рост в красноярской деревне «общественного интеллекта», иначе «интеллектуального потенциала» общества. Но это во многом статистический эффект, вызванный уходом из жизни малограмотной старшей части населения, из-за чего автоматически улучшались все параметры. Анализ же возрастных показателей переписи свидетельствует, что темпы распространения высшего образования в деревне в течение нескольких последних десятилетий стабилизировались. Во всех поколениях от 25 до 70 лет доля лиц с высшим образованием колеблется на уровне 10–11 %. Вы- деляются лишь крайние группы: 20–24-летние (5,8 %), часть которых еще доучивалась в вузах, и лица старше 70 лет, рожденные в 1940 г. и ранее. Лишь 4,2 % из них сумели получить высшее образование. Самым же образованным поколением оказались 60–64-летние, рожденные в 1946–1950 гг.: дипломы вузов имели 11,8 % из них [Тома…, с. 458–459].
Облик деревни теперь определяется людьми со средним специальным образованием. Темпы роста этой группы были такими же, как и лиц высшей квалификации, но их удельный вес втрое больше – 26,4 %. В постсоветский период именно они стали в образовательной структуре населения самой многочисленной группой.
Больше половины жителей деревни – 58,1 % в 2010 г. – по-прежнему имеют общее образование разного уровня. Окончивших среднюю школу совсем немного – 22,6 %, хотя с начала 1970-х гг. в стране осуществлялся переход к среднему всеобучу и большинство нынешних сельчан по возрасту попали под него. По сравнению с концом 1980-х гг. удельный вес данной группы даже уменьшился. Это было вызвано, с одной стороны, ростом числа тех, кто на базе общего образования получал специальное, а с другой – провалом курса на всеобщее среднее образование в советский период, снижением всеобуча до уровня основной школы в 90-х гг., но особенно – малой востребованностью образованных людей на селе. В результате удельный вес группы лиц, имеющих лишь основное (9 классов) или неполное среднее (7–8 классов) образование, вместе с учащимися старших классов почти такой же, как окончивших среднюю школу, – 21,2 %.
Ослабление регулирующей роли государства в сфере образования обернулось сохранением в деревне высокого удельного веса – 10,8 % – лиц с начальным образованием, хотя он и сократился вдвое по сравнению с концом 80-х гг. По переписи, в этой группе каждому двенадцатому было по 15–17 лет, и, возможно, кто-то еще доучивался в основной школе. Но остальные одиннадцать по возрасту уже должны были получить основное общее образование, однако не имели его. Более того, перепись показала, что сельская
ВЕСТНИК
жизнь «позволяла» 1,6 % населения обходиться без начального образования, и даже оставаться неграмотными [Тома…, с. 458–459].
Группа неграмотных вызывает особый интерес. Она насчитывала 5 065 чел. – 0,9 % сельского населения в возрасте 15 лет и более. 46,7 % ее составляли мужчины, 53,3 % – женщины. Показателен возрастной состав безграмотных: более пятой части их составили лица в возрасте от 20 до 30 лет, чьи школьные годы пришлись на постсоветский период. И, напротив, меньше всего их среди лиц в возрасте 60–69 лет (1941–1950 гг. рождения). Еще 3 448 чел. (0,6 %) не указали своего уровня образования [Там же]. Резонно предположить, что значительная часть их, если не большинство, также образования не получили.
Для оценки качества образовательного потенциала деревни целесообразно использовать «коэффициент малограмотности» – показатель, альтернативный «коэффициенту интеллекта». В советские времена «малограмотными», или «функционально неграмотными», официально не считались лица, окончившие 7–8 классов. Но в современной литературе утвердилось мнение, что с учетом возросших требований к функциональной деятельности человека их тоже стоит причислять к этой категории. Таковыми в красноярских деревнях (с основным (неполным средним) образованием и ниже, включая безграмотных), являлись 33,9 % населения в возрасте 15 лет и старше.
За валовыми показателями переписи 2010 г. скрывается пестрота образовательных характеристик разных демографических групп населения. По-прежнему различаются параметры образованности мужчин и женщин. Однако межполовые различия приобрели новую окраску. Сельские женщины, в советское время перегнавшие мужчин в профессиональной подготовке, сохранили лидерство, но начали терять темпы в образовательном процессе, в то время как мужчины активизировались. Так, если в 1989 г. профессиональное образование (без начального) имели 19,4 % мужчин и 35,2 % женщин, то в 2010 г. – соответственно 40,4 и 46,5 % (включая начальное) (табл. 2) [Итоги…, 1990, с. 185–187, Тома…, с. 458–459]. Особый рывок мужчины сделали в среднем профобразовании, а в начальном обогнали женщин почти вдвое. Превосходя мужчин в профессиональной подготовке, женщины уступили им, хотя не принципиально, в общем образовании. Среди них меньше доля лиц со средним и основным образованием, но больше с начальным. У них же выше удельный вес не имеющих образования (1,7 против 1,4 %) и неграмотных – 1,0 и 0,9 % [Тома…, с. 458–459].
Таблица 2
Образовательная структура сельского населения Красноярского края по полу в 1989 и 2010 гг.
|
Пол / год |
На 1 000 чел. в возрасте 15 лет и старше имеют образование |
||||||
|
высшее |
неполное высшее |
среднее проф. |
начальное проф. |
среднее полное |
основное |
начальное |
|
|
Муж. 1989 |
51 |
8 |
135 |
362 |
265 |
154 |
|
|
2010 |
71 |
16 |
230 |
87 |
248 |
239 |
94 |
|
Жен. 1989 |
77 |
10 |
265 |
282 |
228 |
116 |
|
|
2010 |
102 |
19 |
295 |
49 |
206 |
188 |
121 |
Межвозрастные различия также отчетливо выражены в образовании сельчан. Каждая из возрастных когорт имеет отличные от других структуры, отражающие исторические условия, в которых лица данных возрастов получали образование.
Чтобы представить влияние постсоветских преобразований на конечный результат в образовании, оценим показатели в возрастных группах, чьи школьные годы пришлись на последнюю четверть века, например, 25–29-летних. Они родились в первой половине 80-х гг., к моменту распа- да СССР достигли 5–10 лет и, испытав на себе все перипетии 90-х и последующего времени, к 2010 г. в абсолютном большинстве уже закончили свое образование. В этой и других молодых когортах перепись 2010 г. зафиксировала новое явление. Если в советские годы каждое более молодое по- коление было образованнее предыдущего, а поколения «детей» и «родителей» значительно различались, то у «детей постсоветского периода» существенного прогресса не наблюдалось по сравнению с их «родителями», например, с группой 50–54-летних (табл. 3) [Тома…, с. 458–459].
Таблица 3
Образовательная структура сельского населения Красноярского края по возрасту в 2010 г.
|
Возраст, лет |
На 1 000 чел. в возрасте 15 лет и старше имеют образование |
||||||
|
высшее |
неполное высшее |
среднее проф. |
начальное проф. |
среднее полное |
основное |
начальное |
|
|
16-29 |
67 |
36 |
276 |
80 |
253 |
284 |
44 |
|
в т.ч. 25–29 |
114 |
31 |
255 |
81 |
241 |
215 |
42 |
|
50–54 |
100 |
9 |
341 |
77 |
286 |
154 |
26 |
Как видно из табл. 3, профессиональное образование всех уровней получил 481 чел. из тысячи 25–29-летних и 527 чел. из когорты их «родителей», в которой также выше доля лиц, имевших полное среднее образование, но почти вдвое ниже – основное (в их случае 8 классов) и начальное. Еще показательнее данные о «необразованных». Не получили начального образования 1,5 % «детей», но 0,6 % «родителей», доля неграмотных равна 1,1 и 0,4 % соответственно, не указавших образования – 0,8 и 0,5 % [Там же]. В сумме соотношение этих низших групп составляет 3,4 к 1,5 %.
Молодежь перестала быть, как прежде, самым образованным поколением. «Коэффициент интеллекта» у 16–29-летних ниже, чем у лиц в возрасте 50–54 года (6,7 против 10,0 %) [Там же]. И если кто-то из 16–24-летних еще доучивался в вузах, то уже успевшие окончить их 25–29-летние сельчане тоже практически не превзошли 50-летних. Между тем только благодаря росту образования, прежде всего высшего, расширяются возможности для развития каждой личности, что, по современным представлениям, является главной ценностью в обществе. Судя по приведенным данным, образовательный уровень молодежи в деревнях края явно не соответствует современной эпохе.
Перепись показала, что в постсоветский период затормозилась тенденция сближения уров- ня образования сельских и городских жителей. Процесс еще далек от завершения (см. табл. 1). Горожане в полтора раза опережают сельчан в профессиональном образовании – прошли обучение 66,8 % из них. Но важнее качество их образованности. Среди них в 2,7 раза больше лиц с высшим образованием, в 1,3 раза – со средним специальным и в 1,7 раза меньше с начальным профессиональным. Показатели общего образования также свидетельствуют в их пользу. Благодаря лучшему развитию в городах профобразования, там осталось в 1,2 раза меньше, чем в деревне, лиц с полным средним образованием, в 2,2 раза – с общим, в 2,4 раза – с начальным.
Образовательный потенциал жителей красноярской деревни выглядит, как и в советский период, хуже, чем среднестатистических сельчан России. По основным показателям красноярцы не только не достигли республиканского уровня, тоже невысокого, но еще больше, чем в конце 80-х гг., отстали от него (см. табл. 1). В деревнях края заметно меньше удельный вес лиц с высшим и неполным высшим образованием, но больше – с основным (или неполным средним) и начальным.
Итак, результаты развития образовательного потенциала современной сибирской деревни неоднозначны. За последнее двадцатилетие он еще укрепился, но во многом не за счет дости- m
ВЕСТНИК
жений сферы образования. В его динамике продолжает воспроизводиться часть трендов советского периода (рост удельного веса профессионально обученных лиц и т.д.). Но возникли новые. Господствовавшая прежде тенденция стирания различий в образованности между демографическими, социальными, территориальными группами сменилась их дифференциацией. Разброс образовательных характеристик сельчан увеличился, что свидетельствует, кроме прочего, об отсутствии у них равных возможностей для учебы даже в школе. Углубилась поляризация показателей. С одной стороны, двукратно поднялся удельный вес лиц с высшим образованием, с другой – выросла доля низших групп, появились безграмотные даже среди молодежи.
Качество образовательного потенциала современной красноярской деревни сложно оценить высоко. «Коэффициент интеллекта» низок и практически не меняется в поколениях, рожденных после 1940 г. Его стабилизация на низком уровне доказывает, что сельская действительность не требует широких слоев интеллигенции. Ее культурный и духовный потенциал определяется лицами со средним образованием.
Самое тревожное – снижение образовательной активности сельчан и, как следствие, увеличение отставания от средних по российским селам и городам края показателей, торможение темпов роста образования женщин и молодежи, образовательный потенциал которой уже уступил по основным параметрам потенциалу старших поколений. Молодежь остается недоученной и, живя в деревне, по сути, находится у нее в «заложниках». О наличии некоторого «запаса» образованности в деревне с учетом перспектив ее развития говорить не приходится. А между тем будущее деревни в решающей степени будет определяться накопленным образовательным потенциалом.
Список литературы Образовательный потенциал современной сибирской деревни (на материалах Красноярского края)
- Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Красноярскому краю. Красноярск, 1990.
- Тома офиц. публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. (Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.). Т. 3: Образование . URL: http://www.gks.ru/free
- Федорова В.И. Проблема традиций и инноваций в реформировании сельской школы: на опыте Красноярского края//Вестник КГПУ. 2015. № 1 (31).