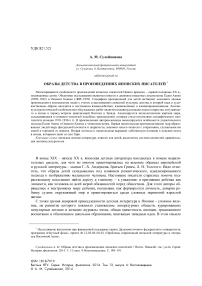Образы детства в произведениях японских писателей
Автор: Сулейменова Аида Мусульевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности произведений японских писателей Нового времени - первой половины ХХ в., посвященные детям. Объектами исследования являются повести и дневники известных писательниц Ёсано Акико (1878-1942) и Окамото Каноко (1889-1939). Специфика произведений для детей заставляет оценивать данные произведения в комплексном плане с учетом существования словесной культуры детства, в которой язык и художественные образы находятся в постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и взаимопроникновении. Лингвокультурологической особенностью обсуждаемых работ является индивидуализация опыта подростка, вступающего в жизнь в период встречи цивилизаций Востока и Запада. Анализируется аксиологическая картина мира, складывавшаяся в сознании читателей подобных произведений, которые стали носителями специфического менталитета японцев 1910-1930-х гг. В произведениях авторов-женщин анализируются особенности дидактического подхода Ёсано Акико и Окамото Каноко к читателям-детям. Первая писательница противопоставляет мир образованных людей миру феодальной косности и закрытости, знакомит юного читателя с открытиями, сделанными ею самой и героиней ее повести. Вторая поэтесса и писательница выражает собственную позицию к поискам места в жизни, которыми занят еесын Таро.
Японская детская литература, повести для детей, аксиология, система ценностей, сравнительная лингвокультурология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219065
IDR: 147219065 | УДК: 821.521
Текст научной статьи Образы детства в произведениях японских писателей
В конце XIX – начале ХХ в. японская детская литература находилась в поиске выразительных средств, для чего во многом ориентировалась на высокие образцы европейской и русской литературы – сказки Г.-Х. Андерсена, братьев Гримм, Л. Н. Толстого. Надо отметить, что образы детей складывались под влиянием романтического, идеализированного подхода к изображению маленького человека. Настоящие писатели старались помочь подрастающему поколению найти дорогу к главному – к уважению и признанию ребенка как личности, как человека со всей мерой обязанностей перед обществом. Для этого авторы обращались к внутреннему миру ребенка, показывая, как формируется личность, доверяя ребенку судить окружающий мир и ориентироваться среди сложных перипетий взрослой жизни.
С точки зрения жанровой принадлежности детская литература в Японии – сложное явление, на развитие которого повлияло становление литературных обществ, курировавших популярные детские и женские журналы эпохи, общая грамотность японцев, традиционное воспитание и обновленное школьное образование, впитавшее западные идеи. В этом смысле произведения для детей (как прозаические, так и поэтические) являют собой объект дальнейшего исследования для антропологов и историков искусства.
Вопрос о произведениях для детей всегда затрагивает проблему создателя, писателя, конструирующего своего читателя – ребенка по своему образцу, с одной стороны, а с другой стороны, воспитывающего и рассказывающего о мире вокруг. На Ёсано Акико (1878–1942) и Окамото Каноко (1889–1939) следует смотреть, как на матерей, напевающих песни, рассказывающих истории и сказки собственным детям. В этом процессе общения с собственными детьми, процессе, внешне кажущемся рутинным и абсолютно нетворческим, талантливые женщины закладывают в души детям представления о добре и зле, о месте человека в жизни, о великой природе вокруг, о том, что такое есть человек.
Ёсано Акико, выдающаяся японская поэтесса, приобрела известность благодаря сборникам пятистиший танка «Спутанные волосы» («Мидарэгами», 1901), «Маленький веер» («Саоги», 1904), «Наряд любви» («Коигоромо», совместно с Ямакава Томико, Масуда Масако, 1905). Тем не менее первые удачи на поэтической стезе не совсем ее удовлетворили, поэтому автор «Спутанных волос» обращается к прозе, в том числе к форме детского рассказа.
После закрытия общества «Синсися» («Общество новой поэзии») и журнала «Мёдзё» («Утренняя звезда», 1900–1908) Акико и ее супруг Ёсано Тэккан (1872–1935), поэт, редактор и критик, были вынуждены зарабатывать на жизнь только сочинительством, поэтому семью Ёсано в 1900–1910-х гг. трудно назвать обеспеченной. В семье подрастало шестеро детей, но именно в это неблагополучное время мать семьи начинает сочинять, рассказывать и записывать рассказы для детей, сказки. Среди опубликованных сборников Акико такие, как «Cказки для девочек и мальчиков» («Отогибанаси сёнэн сёдзё», 1907), «Восемь ночей» («Ят-цу-но ёру», 1914), «Реченька» («Унэ-унэгава», 1915), «Скоро приду» («Иттэ маиримас», 1919), завоевали своего читателя.
Отношение Ёсано Акико – матери и писательницы одновременно ‒ становится определяющим в этом случае. Под персонажами в сказке «Рыбки-слуги» и рассказе «Николай и Бун-тян» подразумеваются настоящие дети Акико. Старшие сыновья Хикару, Сигэру и дочь Яцуо с помощью рыбок и озорного мальчугана Бун-тяна познают мир, дают ему собственную оценку и пытаются взаимодействовать с ним.
Автор Акико вводит традиционный образ животного – рыбок в ткань сказки как атрибут жанра, пускает их по Токио, новому городу с поездами, станциями, знакомит озорника Бун-тяна с православной церковью, собором «Никорай-до» и колокольным звоном. Дети вступают не в традиционную Японию – с жизнью, регламентированной конфуцианскими и буддистскими предписаниями (храмовые школы «тэра-коя», кварталы увеселений и прочее, доставшееся от предыдущих эпох), а в Токио, постепенно превращающийся в многонациональный, мультикультурный центр.
Стремление передать новые веяния, изменения в жизни были не чужды и другим авторам, в частности Ёсано Акико, и это желание она постаралась изложить в рассказе «Год из жизни Тамаки» (1912). Впервые эта повесть была опубликована в журнале «Друг девочек» («Сё:дзё но томо») с января по декабрь 1912 г. Публикация совпадает с временем путешествия супругов Ёсано в Европу, и в содержании произведения слышны отзвуки путевого дневника «Из Парижа» («Пари ёри», совместно с Ёсано Хироси, 1912).
Муж Акико, Хироси (псевдоним Тэккан, 1872–1935), отправился в Европу на полгода раньше Акико, в ноябре 1911 г. В повести для детей писательница использовала записки мужа, его впечатления о поездке зимой. Совершить поездку в Европу для обычных людей того времени было делом фактически невыполнимым, но многие лелеяли мечту о посещении запада, и перед писателями, авторами статей и рассказов для детских и молодежных журналов, встала задача удовлетворить любопытство читателей. Было чрезвычайно привлекательно выбрать главной героиней маленькую девочку, путешествующую по европейским городам. Для этого в оправдание такого путешествия в сюжет повести внедряется отец героини, служащий министерства, находящийся за границей по служебным делам. Тем самым объясняется высокое положение Тамаки, посещающей в первых главах повести дома высокопоставленных господ, в частности, особняк контр-адмирала Тацуи, дом госпожи «Её Превосходительство» («Кими-сама»), перед которой склоняются самые разнообразные пер- сонажи. Другой персонаж повести, подружка Тамаки, Ринко, также дочь благородного семейства.
Героине Тамаки тринадцать лет. Будучи единственным ребенком в семье, она выросла в атмосфере родительской любви, ни в чем не ограничиваемой. Тамаки родилась в Токио, но в описываемый в повести период семья переезжает из Токио в Киото. Данный на первых страницах портрет юной героини также соответствует запросам юных читательниц: Тамаки ‒ прелестное дитя, простодушное и доброжелательное. Исследовательница творчества Ёсано Акико Фурусава Юкико полагает, что повесть «Год из жизни Тамаки» является воспитательным произведением, работой типа Bildungsroman [Фурусава, 1997. С. 109]. В планы Акико входило создание некоей идеальной девочки-героини, центра семьи, на примере жизненных приключений которой можно было бы показать становление характера и его проявление в отношениях с другими людьми. Эти идеи поэтессы и писательницы были озвучены ею позже, в серии лекций для Института культуры, Бунка Гакуин ( 文化学院 ) 1.
Сама Ёсано Акико была воспитана на романтических тенденциях в культуре Нового времени Японии, поэтических сборниках Симадзаки Тосона (1872–1943). Герои и героини То-сона были отмечены вольным духом индивидуализма, совершенно отличного от консерватизма предыдущей эпохи феодальных устоев. Главная героиня детской повести Тамаки являет собой образец подобного поколения «детей звезд», способной свободно перемещаться по миру для достижения собственных целей.
Первая часть, завязка повести, составляющая примерно шесть глав, посвящена обстоятельствам, по воле которых главная героиня встречает и теряет свою подружку Ринко. Тамаки бесстрашно пускается на поиски своей пропавшей подружки Ринко, узнает, что вокруг дома, где живет ее подруга, ходит масса слухов, что особняк на углу называют «домом с привидениями» («о-бакэ-ясики»). Героиня одна посещает дом, ее пугают странные звуки, на стене неожиданно появляется надпись: «Ринко находится вон там!». Тамаки входит в указанную комнату и обнаруживает к своему ужасу фигуру, покрытую вуалью. Фигура оборачивается, и перед Тамаки встает потерянная было подружка Ринко.
Этот «дом с привидениями» олицетворяет закосневшие предрассудки бабушки Ринко, запрещавшей бедной подружке выходить к людям и обязавшей ее прятать лицо под вуалью. Таким образом, героиня сталкивается с иным отношением к человеческой судьбе, а юные читатели повести наслаждаются приемом, характерным для «готического романа». Приключения Тамаки ведут ее от этого страшного дома к возможной спасительнице Ринко, к госпоже «Её Превосходительство» («Кими-сама»), которой удаётся отговорить бабушку Ринко держать ребёнка взаперти и даже, наоборот, позволить девочке поехать к родителям, находившимся на государственной службе в Швеции. Фурусава Юкико предполагает, что за героиней «Её Превосходительство» может скрываться поэтесса, автор сборников танка Кудзё Такэко (1887–1928), известная своей активной миссионерской работой и частыми поездками в Европу [Фурусава, 1997. С. 111].
Повесть в этом месте делает крутой поворот: от приключенческой повести в духе средневековых «страшных рассказов» для детей, рассказов про домовых и призраков к путевым запискам. Тамаки удается отправиться в Европу вместе с подругой Ринко.
Главы повести, посвященные путешествию девочек в Европу, безусловно, навеяны опытом Акико, проехавшей по сибирской железной дороге и прожившей несколько месяцев в Париже, Лондоне и Брюсселе. Одна из сцен седьмой главы повести происходит в порту Владивостока, на палубе российского корабля. Героини – Тамаки, Ринко и сопровождающая их госпожа «Её Превосходительство» ‒ готовятся пересесть на транссибирский экспресс, и перед глазами Тамаки «словно трепещет поднимающийся театральный занавес, за которым лежит весь мир…» [Ёсано Акико, 1998. С. 119].
В двух главах (8-я и 9-я) описываются впечатления Тамаки от Парижа, и становится понятно, что этот Париж – Париж, который в июне 1912 г. видела Акико. В десятой же главе героиню переносит воображение автора в Лондон, который также посетили супруги Ёсано.
Здесь спутницей Тамаки становится необычное для повествования лицо – девочка Мари, нанятая госпожой «Её Превосходительство» для услуг в Париже и ставшая наперсницей японской девочки. Мари ‒ уникальный персонаж уже потому, что говорит по-английски и по-японски. Первое вполне объяснимо, зато второе сомнительно, но дает возможность героине узнавать мир из более близкого ей источника – ровесницы. В ткань повести вводится персонаж-медиатор, с помощью которого ребёнок оказывается ближе к другому миру, миру второй европейской столицы.
Ёсано Акико сама в своих комментариях к заметкам и в других эссе отзывалась об английской столице как о свободном городе с массой мест, парков, по которым можно было вольно разгуливать [Фурусава, 1997. С. 112]. Впечатления часто сопровождаются, как и в дневнике «Из Парижа», сравнениями с реалиями собственной страны. Например, в главе, посвящённой Лондону, девочки вспоминают красоту родных мест:
«Девочки направились в сторону, куда проехали машины великосветских дам.
‒ О, Тамаки, овечки! – внезапно остановившись, сказала Мари.
‒ Как много и какие хорошенькие!
‒ В Париже не выпускают овец, интересно, пойдём посмотреть на них!
Обе девочки вышли в парк. Овцы, совсем как олени в парке храма Касуга в Нара, разбрелись повсюду, ели хлеб из рук детей.
‒ Похоже на Японию, ‒ сказала Тамаки.
‒ В Японии тоже есть овцы?
‒ Да нет, но вот, есть места, где так же держат оленей. Вот в парижских парках нельзя выходить на газон, а здесь можно свободно играть, это же весело!» [Ёсано Акико, 1998. С. 123‒124].
В статье об образах детства разных культурных эпох М. Эпштейн и Е. Юкина отмечают, что «только романтизм почувствовал детство не как служебно-подготовительную фазу возрастного развития, но как драгоценный мир в себе, глубина и прелесть которого притягивает взрослых людей» [Эпштейн, Юкина, 1979. С. 242]. С одной стороны, работы Ёсано Акико служат иллюстрацией подобной очарованности детскими образами, с другой же ‒ автор компенсирует недостаток собственной взрослости или нехватку детской чувствительности. Словом, идеализация образов девочек в произведениях японской писательницы – не только дань романтическим представлениям, создавшим миф из ребенка, но и поиски собственного стиля.
С точки зрения «романа воспитания» произведение Ёсано Акико полезно для изучения процессов познания, открытия мира, в которые вступают юные героини повести. В пределах родной Японии, известного им города Киото, таятся такие опасности, как совсем иной мир бабушки подруги. Этот мир изображается в первой части повести как тёмный, завешенный паутиной, мир косности и лицемерия. Он резко противопоставляется светлому, безоблачному миру девочки из благородного семейства с играми в парках, общению с разными людьми – взрослыми и детьми. Интересно, что темный мир традиционного японского дома, «дома с привидениями», противостоит новому миру, в произведениях Акико миру западному – Парижу, Лондону и Брюсселю. Обычно оценка встреченных в путешествии людей и увиденных мест имеет обобщённый характер, а также заметки в пути пишутся с желанием выделить «специфические черты чужого национального характера, которые несвойственны чертам его собственного этноса» [Василевич, 2010. С. 82]. Восторженное восприятие европейской культуры в случае Акико и Тэккана обусловлено всем модернистским опытом их работы в журнале «Мёдзё» и общением с поэтами и писателями, проявлявшими интерес к европеизации.
Несколько иная ситуация сложилась в другой семье, двадцатью годами позже. Знаменитая японская писательница и поэтесса Окамото Каноко (1889-1939) также сделала значительный вклад в становление японской литературы – как поэзии, так и прозы. Родившаяся в семье крупного помещика, Каноко получила прекрасное образование, среда способствовала её литературным увлечениям. Например, брат Каноко учился в одном классе с будущим выдающимся писателем – Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965), в молодости юная девушка сочиня- ла пятистишия танка, несколько стихотворений опубликовала в журнале «Мёдзё». Поэтическая манера Каноко первых сборников танка отмечена сильным влиянием Ёсано Акико. В 1930 г. поэтесса вместе с мужем, художником, автором комиксов «манга», Окамото Иппэй (1886–1948) и сыном Таро, который тоже стремился стать художником, втроем едут в Европу. Посетив Париж, супруги Окамото оставляют сына учиться в Сорбонне, отправляются в Лондон. Окамото Иппэй работал некоторое время в Лондоне корреспондентом газеты «Асахи симбун». С этого момента Каноко начинает писать свой дневник в письмах, который будет опубликован только в ее собрании сочинений.
Окамото Таро (1911–1996) учился в университете Пантеон-Сорбонна в тридцатых годах и создал много замечательных произведений искусства после Второй мировой войны. Он был талантливым художником-абстракционистом и писателем.
Цикл писем не включал в себя ответы Таро матери, читатель был принуждён додумывать сам атмосферу и отношения в этой семье. Писательница составила собственный дневник о вояже по Европе, обмениваясь письмами с сыном. «Отрывок из писем Таро» («Таро-э-но тэгами ёру», 1930–1934) включает следующие моменты:
«Повстречалась с авторами комиксов – Кереном и Дэрсо. Очень хорошие люди!
Господин RI всё также тебе докучает?
Надо тебе взять за правило – доверять только себе.
Ставь себе более высокие цели.
Ты всё ещё восхищаешься Сезанном? Всё так и живёшь, экономя на всём, так не позволяй же другим жить за твой счёт. Береги, береги себя!
Можешь приехать в начале лета?» [Окамото, 2009. C. 429].
В первых письмах стиль представляет речь обычной женщины, в дальнейшей переписке автор обращается к сыну с помощью новых форм разговорного языка. Вопросительная частица нейтрально-вежливого японского языка «ка» заменяется на фамильярную частицу, в то время допускавшуюся только мужчинами – «кай».
Писательница противопоставляет Таро иным мужчинам из его окружения. Для неё есть позитивные «другие» (встреченные художники «манга», о которых она пишет сыну) и «отрицательные», вызывающие её настороженность и боязнь за сына. Каноко выделяет «опасного» «господина RI» формальным обращением «господин» («-си») вместо обычного нейтрально-вежливого «-сан».
Поездка в Европу для Каноко с мужем стала шансом прикоснуться к западной культуре. Но надеждам не было дано осуществиться, из-за болезни писательница покинет Европу.
«2 октября.
Не смей пугаться, если читаешь это письмо.
Прочти его спокойно.
У меня случился первый апоплексический удар.
Это было вечером в субботу, в гостинице “Токива Родзё” 2.
На мгновение я отчаялась совсем. Но овладела силой, дарованной мне милостивой богиней Каннон, и победила битву со смертью.
Я увидела рассвет новой Жизни.
Если я смогла прожить сорок с лишним лет, ты также должен упрочить место своё на этой Земле и суметь обрести тихую жизнь, ты должен.
Тебе следует учиться хорошо сейчас. Я сделала всё, от меня зависящее, у меня есть уверенность, что твоя жизнь будет спокойной в будущем. Не беспокойся.
Три дня побуду в “Токива Родзё” и, наверное, можно вернуться в Хэмпстед дня на два.
(На полях слева, в рамке)
Единственное средство, подносимое мною, чтобы смягчить твой страх – молитва “Наму Амида Буцу” » 3 [Окамото, 2009. C. 429].
Письмо заканчивается повышением интонации, вложенной в буддистскую молитву. Хотя весь тон письма традиционно сдержанный, игра с местоимениями и гонорифической адресацией превращает его в полный коннотаций. Письма матери перерастают в послание взволнованной женщины, писательницы Нового времени. Появляются изменения и в стиле современного автора, подразумевающего чуждое окружение. Окамото Каноко путешествует, она видит и чувствует разницу между собой и другими людьми, между собой и сыном, живущим вдалеке. Вот почему молитва так к месту, а не только потому, что женщина начинает задумываться о собственных жизненных достижениях и о будущем сына.
Эти наблюдения над дневниками-письмами и рассказами для детей несколько расходятся с выводами, которые делает А. Н. Мещеряков в «Книге японских обыкновений» о том, что японский ребенок воспитывается в атмосфере усреднения, нивелирования личности. «С самого детства будущего гражданина заставляют смотреть на себя глазами других. Мать внушает ребёнку, что его поведение не может идти вразрез с интересами группы – а иначе задразнят, засмеют…» [1999. С. 216]. В письмах Каноко проявляется другая система воспитания, близкая, кстати, к той, что царила в семье Ёсано. Каноко поощряет Таро не быть такими, как все японцы. Ее сын находится вне своего родного социума, но и там, далеко от родины, он должен быть отличным от других, т. е. его поведение не должно быть таким, как предписывают нормальному выходцу из страны Восходящего солнца. Мещеряков сравнивает правила поведения для японских и для русских детей: «У нас провинившегося ребенка держат взаперти дома, не разрешая гулять, в Японии – не пускают домой, временно изолируя от семьи» [Там же. С. 215]. Отличавшийся от ровесников, Таро и вырос неординарным человеком, специфическое воспитание Каноко сыграло в этом, видимо, определенную роль.
Детская литература Японии стала объектом исследования критики только недавно, и необходимо определить истоки подобной литературы, жанровое разнообразие и характер воздействия на читателей. Представленные образцы работ, предназначенных для детей, являются вариациями на тему поиска себя в огромном мире, встреч в этом мире с другими, зачастую непохожими, людьми. Опираясь на данные повести и дневники, имеет смысл раскрыть аксиологическую содержательность всех произведений, связанных с ними, и составить представление о менталитете японцев ХХ в.
Список литературы Образы детства в произведениях японских писателей
- Василевич А. П. Откуда берется представление о национальном характере? // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 76-87.
- Мещеряков А. Н. Книга японских обыкновений / Сост. А. Н. Мещеряков. М.: Наталис, 1999. 399 с.
- Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. № 12. С. 242-257.
- Ёсано Акико. Хаха-но аи. Ёсано Акико-но до:ва [与謝野晶子。母の愛。与謝野晶子の童話。松浦恵美子編。東京:婦人画報社 ]. Материнская любовь. Рассказы для детей Ёсано Акико / Подред. Мацуура Эмико. Токио: Фудзин гахо:ся, 1998.
- Окамото Каноко. Таро-э-но тэгами ёру [岡本かの子。太郎への手紙よる ]. Из писем Таро. С. 426-457 // Окамото Каноко. Тикума сёбо: райбурари 037. [岡本かの子。東京:ちくま書房ライブラリー ]. Токио: Тикума сёбо, 2009. 477 с.
- Фурусава Юкико. «Тамаки-но итинэнкан». Рэйдзё: кё:ику-но моногатари [古沢夕起子。『環の一年間』。令嬢教育の物語 ]. «Год из жизни Тамаки». Повесть о воспитании барышни. С. 109-117 // Тэккан то Акико [鉄幹と晶子」第三号、上田博編、大阪:和泉書院 ]. Тэккан и Акико. № 3. Под ред. Уэда Хироси. Осака: Идзуми сёин, 1997.