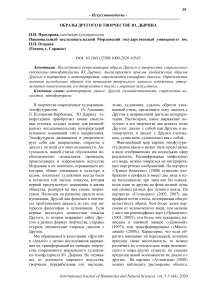Образы другого в творчестве Ю. Дырина
Автор: Прохорова Н.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 5-3 (44), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуются репрезентации образа Другого в творчестве современного художника-этнофутуриста Ю. Дырина. Анализируются приемы изображения образов Другого в портретах и автопортретах, определяется специфика диалога. Определяется значение исследуемых образов для понимания творческого замысла художника, утверждается вовлеченность его творчества в диалог с мировым искусством.
Автопортрет, диалог, другой, самоидентичность, современное искусство, этнофутуризм
Короткий адрес: https://sciup.org/170187727
IDR: 170187727 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10545
Текст научной статьи Образы другого в творчестве Ю. Дырина
В творчестве современных художников-этнофутуристов (А. Алешкин, Л. Колчанова-Нарбекова, Ю. Дырин) этнофутуризм приобретает новые смысловые оттенки, создает основу для разнообразных исследовательских интерпретаций основных инноваций этого направления. Этнофутуризм развивается и репрезентирует себя как направление, открытое к диалогу во всей его многоплановости. Актуальность нашей статьи обусловлена необходимостью осмысления процессов, происходящих в современном искусстве Мордовии в их значении, отражающем некоторые общие тенденции в культуре в целом, поскольку художники всегда были и остаются той частью социума, которая первой предчувствует изменения в жизни общества, реагируя на них своим творчеством. Несмотря на развитие средств коммуникации, Другой как феномен в контексте проблематики диалога до сих пор интересен философам и художникам. Если первые исследуют ценностные смыслы Другого, то вторые выражают тайну Другого в разных формах творчества, стараясь открыть неизвестные стороны диалога с Другим.
Мы обращаемся к категориям «Другой» и «диалог» с целью исследования выражения их трансформаций на примере творчества современного мордовского художника-этнофутуриста Ю. Дырина. Не отрываясь от контекста мирового искусства, творчески перерабатывая его наследие, этому художнику удалось обрести узнаваемый стиль, представить тему диалога с Другим в непривычной зрителю интерпретации. Рассмотрим, какое выражение получают в его творчестве два аспекта темы Другого: диалог с собой как Другим в автопортретах и диалог с Другим (человеком, существом, сущностью) как с собой.
Фантазийный мир картин этнофутуриста разнопланов и может быть представлен в виде изображенных им нескольких сфер реальности. Расшифровывая мифологию его мира, можно опираться на интерпретации портретных изображений. На портрете «Лунное божество» (2008) существо изображено в профиль и имеет два лица и одно полускрытое; три лика как бы появляются один за другим на фоне полной луны как символ разных фаз лунного цикла. На портретах «Солнышко» (2002, 2007) два профиля почти слиты, подчеркивая общую целостность образа. Чем более далек персонаж от человеческого мира, тем меньше у него антропоморфных черт («Пришелец» (2001, 2002)), тем более они искажены, написаны в наивной манере («Домовой» (1997)) или трансформированы («Многоликий» (2000)). Характерно, что если обратить внимание на персонажей, которым присуща такая многоликость, то можно различить их относительно мира человеческого и мира других существ, по степени предполагаемой возможности их диалога с другим. На картине «Атлантида» (2000) можно наблюдать растворение объекта, похожего на силуэт мамонта, превращение его в изображение части древнего материка на карте. Напротив, в графической серии «Смайлики» (2019) художник демонстрирует тенденцию к антропоморфизации символов, призванных выражать разную степень эмоциональности при общении в интернете, тем самым привнося человеческое, одушевленное начало в информационную среду. Люди и звери, изображенные на фоне пейзажей земного мира, определенны, однолики и реалистичны («Старик и девочка» (2002)). Особо выделяются образы персонажей, имеющих отношение к творчеству: фигуры музыканта («Музыкант» (2008)), поэта (Поэт (1999)), мудреца («Мудрец» (1999)). Они имеют свою специфику изображения; в одном лицевом контуре персонажа размещено два или три других, символизируя сложность, многоплановость его внутреннего мира. Характерно, что несколько профилей часто размещены в одном направлении и эта особенность обыгрывается в автопортретах.
Автопортреты художника являются знаковой точкой отсчёта, своего рода ключом к системе представленных образов. Именно лицо привлекает взгляд, именно с лицом на картине вступает в диалог взгляд зрителя в первую очередь. «Лицо - это не просто лицевая сторона, верх, который может быть поверхностью вещей. Прежде всего, лицо есть то, что видит, может обмениваться взглядами» [3]. Творчество Ю. Дырина в своем становлении обогащалось контекстом художественных поисков искусства ХХ века. В портретных изображениях художник обращается к приему, сходному с приемом П. Пикассо: изображение лица в разных проекциях, одновременное воспроизведения лица в фас и в профиль (например, картины П. Пикассо «Чтение» (1932), женские портреты послевоенного периода). Творческие находки П. Пикассо мордовский этнофутурист интерпретирует в игровой манере. Характерной чертой его автопортретов является расположение двух, обращенных друг к другу профилей, помещенных в общие рамки очертаний лица. Автопортрет для художника имеет значение самопрезента-ции, создавая свой портрет, он совершенно свободен в выборе черт и особенностей: от костюма и эпохи до выбора, изобразить ли ему собственное лицо или заменить его маской. В автопортретах Ю. Дырина он представляет себя зрителю как этнофутурист с разными лицами, используя повторяющийся в его картинах прием обращённого на/в самого себя лика, который может символизировать происходящий монолог художника, его внутреннюю речь в творческом процессе. Изображение на автопортрете вглядывается - в себя или в образ Другого-как-себя; смотрит на себя как на Другого, являясь в какой-то степени иллюстрацией известного высказывания М.М. Бахтина «Быть - значит быть для другого и через него - для себя. У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого» [1]. Использование обращенных друг к другу профилей в рамках одного лица свойственно образу, принятому художником для характеристики самого себя в идеализированных автопортретах («Автопортрет (2007), «Художник» (2008)).
В таком портретном приеме можно одинаково видеть и попытку запечатлеть процесс самостановления внутри процесса творчества, а также, если учитывать видение со стороны, - желание художника отстраненно посмотреть на свое творчество в контексте выбранного им направления, при этом «остранится» (В. Шкловский), с целью увидеть знакомый образ заново, подметить в нем новые особенности, переопределить творческую самоидентичность. «Художник постоянно стремится воспринять и бесстрастно оценить рождающийся художественный образ как чужой» [2]. В более широком смысле художник зафиксирует на холсте некоторое очищенное духовное содержание, выражая себя как часть культуры в форме запечатлеваемого акта саморефлексии. Диалог художника с собой документируется в автопортретах как специфический опыт самопознания.
Прием помещения в один контур лица двух и более профилей может быть интерпретирован как диалог с альтер-эго, двойниками или моделью-музой художника
(«Художник и муза» (2000), «Предчувствие» (2008), «Признание» (2008)).
Таким образом, в творчестве Ю. Дырина усматриваем свидетельство процесса творческой самоидентификации художника посредством как внутреннего диалога, так и диалога с Другим в контесте игры смыслов в рамках содержательной линии отношений: Я –Другой, Другой как я – я как Другой. Современное региональное искусство находится в русле актуальных поисков новых форм выражения, откликаясь на проблемы творческого становления художника в диалоге с Другим и мировой культурой.
Список литературы Образы другого в творчестве Ю. Дырина
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 312 с.
- Кривцун О.А. Художник. Феномен зеркала // Человек. - 2018. - №3. - С. 55.
- Логинова М.В. Проблема молчания в культуре // Фундаментальные проблемы культурологии. - СПб.: Алетейя, 2008. - 311 с.