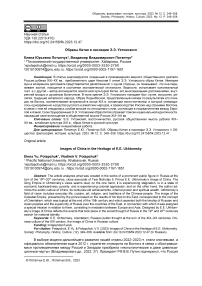Образы Китая в наследии Э.Э. Ухтомского
Автор: Потапчук Е.Ю., Потапчук В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется созданный в произведениях видного общественного деятеля России рубежа XIX-ХХ вв., приближенного царя Николая II князя Э.Э. Ухтомского образ Китая. Империя Цин в воззрениях дипломата представляется двойственной: с одной стороны, он показывает, что она переживает застой, находится в состоянии экономической отсталости, бедности, испытывает колониальный гнет, а с другой - автор восхищается экзотичной культурой Китая, его многовековыми достижениями, внутренней мощью и духовным богатством. В поле зрения Э.Э. Ухтомского попадает быт, кухня, искусство, религия, традиции китайского народа. Образ Поднебесной, представленный князем по результатам его поездок на Восток, соответствовал актуальной в конце XIX в. концепции восточничества, в которой утверждалось одновременно и родство русского и азиатских народов, и превосходство России над странами Востока, в связи с чем ей отводилась особая миссия по отношению к ним, состоящая в посредничестве между Европой и Азией. Сконструированный Э.Э. Ухтомским образ Китая отражает поиски национальной идентичности, нашедшие свое воплощение в общественной мысли России XIX-ХХ вв.
Э.э. ухтомский, восточничество, русская общественная мысль рубежа xix-хх вв, китайская культура xix в, образ китая в русской культуре
Короткий адрес: https://sciup.org/149144753
IDR: 149144753 | УДК: 130.2(510:470) | DOI: 10.24158/fik.2023.12.47
Текст научной статьи Образы Китая в наследии Э.Э. Ухтомского
исторически и географически является «неотъемлемой частью АТР», а ее «полноформатный выход на азиатско-тихоокеанское пространство» является залогом успешного развития сибирских, дальневосточных регионов и всей страны1. В свете актуальной политики стратегические интересы РФ смещаются в сторону крупнейших азиатских стран – Индии, Индонезии, Японии, Республики Корея и КНР (Бардовский, 2023: 99). Поскольку «поворот России на Восток» становится толчком к взаимодействию с Китаем (Бардовский, 2023: 99), значительный научный интерес представляет исторический опыт межкультурного и межгосударственного взаимодействия России с этой азиатской страной. При анализе эволюции российско-китайских отношений следует уделить особое внимание интеллектуальному наследию Эспера Эсперовича Ухтомского (1861– 1921) – одного из основных представителей восточничества – начала геополитической концепции евразийства (Стрижак, 2012: 56), системы идей конца XIX – начала ХХ вв., утверждающей культурно-историческую близость России и стран Востока, а также пропагандировавшей постепенное мирное расширение ее в Азии (Суворов, 2015 б: 115).
-
Э.Э. Ухтомский вошел в историю общественной мысли России как один из авторов идеи культурного единства русского и азиатского народов, как пропагандист положительного образа Востока, как создатель концепции «мирного продвижения» России в Дальневосточном регионе.
Князь Э. Ухтомский известен как один из приближенных императора Николая II, российский дипломат, востоковед, путешественник, публицист, поэт и переводчик. Еще в студенчестве он увлекся изучением культуры и религии народов Азии, а работая в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, совершил в 1886–1890 гг. поездки по Забайкалью, Приамурью, в Монголию и Китай, вследствие чего приобрел известность в России в качестве знатока восточной политики, культуры и искусства. В ходе поездок по азиатским территориям перед ним была поставлена задача – «определить причину, по которой христианская миссия на данных территориях не имела большого успеха» (Ашихмин, 2021: 49).
Именно князя Ухтомского пригласили сопровождать цесаревича Николая Александровича в его ознакомительном турне по странам Европы, Африки и Азии (Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д., 2009). Описание поездки будущего императора Николая II Э. Ухтомский представил в парадном отчете «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича: 1890–1891»2.
В характеристиках стран и народов Дальневосточного региона, в том числе и Китая, данных дипломатом, отражаются культурно-идеологические тенденции, доминировавшие на рубеже XIX–ХХ вв. в политике Российской империи. Это тем более интересно, что издание «Путешествия на Восток наследника цесаревича»3, подготовленное князем, стало не только одним из самых популярных источников сведений о восточной культуре для широкой российской общественности, но и транслировало официальную точку зрения властей на проблемы межгосударственного и межкультурного взаимодействия России со странами Азии (Кирмель, 2022: 23).
Весной 1891 г. Э. Ухтомский в свите наследника престола побывал в Китае, что также нашло отражение в изданном в 1893–1897 гг. «Путешествии на Восток наследника цесаревича»4. Цель нашего исследования – выделить наиболее яркие черты в образе Китая, созданном в трудах Э.Э. Ухтомского. Сделать это позволили структурно-семиотический, интертекстуальный, герменевтический, сравнительно- и культурно-исторический методы.
Свои взгляды в духе идеологии восточничества на связь русской и азиатской культур Э. Ухтомский изложил в работе «К событиям в Китае: Об отношениях Запада и России к Востоку»5, написанной в 1900 г. по результатам восстания ихэтуаней, к заключительному этапу которого князь прибыл в сентябре 1900 г. в Пекин. На Э. Ухтомского возлагалась миссия выступить посредником в переговорах между китайской стороной и представителями колониальных держав, но по результатам оценки сложившейся ситуации царские власти отказались от своих планов, и князя отозвали домой. После этих событий пошла на убыль дружба царя с Э. Ухтомским, С.Ю. Витте (1849–1915) от него отдалился, влияние князя при дворе сошло на нет, активная его политическая карьера закончилась в связи с изменением общего направления восточноазиатской политики России, но редактируемое и издаваемое им до 1917 г. издание «Санкт-Петербургские ведомости» оставалось самым авторитетным в этой сфере (Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д., 2009).
Ставка была сделана на экспансионистские планы группировки статс-секретаря А.М. Безобразова (1853–1931), в соответствии с которыми предполагалось создать российскую колонию на территории Монголии, Кореи и северо-восточных земель Цинской империи (в частности, в Манчжурии). Эта буферная территория была названа журналистом и этнографом И.С. Левитовым (1850–1918?) Желтороссией и должна была включать в себя часть российских земель от Байкала до Тихого океана. Предполагалось, что она станет особой экономической зоной (Ходя-ков, 2018). На ее территории планировалось создать царский протекторат, провести массовое переселение на эти земли крестьян из Европейской части России, осуществить русификацию местных жителей (Гаспарян, 2018: 116).
«Безобразовская» группировка, имевшая влияние в придворных кругах царской России, исходила из уверенности, что колониальная политика на Дальнем Востоке не только усилит влияние Российской империи в этом регионе, но и позволит противостоять так называемой «желтой угрозе», возникновение и распространение представлений о которой произошло на рубеже XIX– XX вв. в связи с агрессивной политикой Японии. Представление о «желтой опасности» формировалось под влиянием взглядов В.С. Соловьева (1853–1900) (Суворов, 2018: 38). Э. Ухтомский не согласился с позицией своего наставника и друга (Стрижак, 2013), отметив, что «никакого панмон-голизма, никакой “Азии для азиатов”, никакой Японии, действительно способной направить пробужденный Восток против Европы, по-моему, и нет, и быть не может»1. Однако князя ждало глубокое разочарование, когда колониальная политика Российской империи, соответствующая концепции «безобразовской» группировки, спровоцировала в 1900 г. конфликт с Японией, разрешить который дипломатическим путем не удалось, и зимой 1904 г. вспыхнула Русско-японская война.
Предлагаемый Э. Ухтомским подход к продвижению России на Дальнем Востоке, напротив, призывал отказаться от колониальных устремлений и рассматривать народы Восточной Азии в качестве братских, поэтому он с сожалением отмечает, что в результате разгрома восстания ихэтуаней в Китае Россия оказалась в рядах колониальных держав, унижающих, подавляющих и эксплуатирующих братский азиатский народ2.
В работе «К событиям в Китае: Об отношениях Запада и России к Востоку» Э. Ухтомский указывает на культурную общность России и Востока, подчеркивает «их одинаково резкое отличие от западных наций»3. В его представлении Россия и Восток составляют «органически цельную группу жизненно стойких народов»4. «Славянская по языку и религии», «необыкновенно пестрая» и «смешанная с инородческими элементами» Русь пережила воздействие «общечеловеческого просвещения», идущего от Запада, но просыпается в качестве «обновленного восточного мира», с которым у «ближайших азиатов» – китайцев и индусов – будет больше общих интересов и симпатий, чем с «колонизаторами иного типа»5. Э. Ухтомский заключает, что «между Западом и Азией – бездна», с веками только увеличивающаяся6. Россия же исполняет роль хранителя политического равновесия «среди враждебно настроенных и противуположных друг другу миров восточного и западного типа»7. Залог успешного будущего в этой деятельности дипломат видел в объединяющей миссии и в силе российского государства, которое уже соединило многочисленные народы в общее социально-политическое и культурное пространство. Э. Ухтомский заявлял, что «не осознанный нами Восток» является «органической по духу принадлежностью Мономаховой державы, какой по самой природе вещей в урочный час стали Заволжье и Си-бирь»8. Азия, в его понимании, – это «есть та же Россия»9. Таким образом, восточнические идеи Э. Ухтомского о близости России и Азии – это очередные поиски национальной идентичности России на рубеже XIX–XX вв., вызванные разочарованием в ориентированных на цивилизацию и культуру Западной Европы установок прошлого (Суворов, 2012: 80).
«На гранях противоположных культур» Россия выполняет историческую – «предвечную» – миссию: «боевой и мирный отпор христианского Запада хаотичным азиатским мирам с несомненным культурным прошлым и вместе тем одряхлением от недостатка внутренней творческой работы, обусловить которую может исключительно “деятельная” вера»10. Научить этой жизнелюбивой «деятельной вере» – православию – в противовес «скорбному культу» Будды, «рационализму Конфуция», «сухому отражению монотеистических истин» ислама11 – задача России на Востоке. Пока же
«русские, будучи по престижу первые в Азии», уступают «свою историческую роль и завещанную предками миссию главарей Востока»1 . Князь предлагает поэтому «держаться исторического пути и ни на одно мгновение не терять из виду своих прямых задач в родной и близкой нам по духу Азии»2 .
Впервые Э. Ухтомский отметил общность черт России и Востока еще в ходе своей поездки 1889 г. «по дороге к Каспийскому морю, от Царицына Волгою вниз» (Суворов, 2015 а: 22). Несомненно, на его представления оказала влияние завершавшая тринадцатилетнюю подготовку будущего императора России поездка по странам Евразии, которая сблизила князя с наследником престола, вследствие чего он играл важную роль в восточноазиатской политике в первые годы правления Николая II.
Востокофильские настроения охватывали в последние годы XIX в. всю аристократическую верхушку России. Князь Э. Ухтомский входил в состав так называемого «тибетского лобби» при дворе императора, включавшего в себя небезызвестного П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также великих князей – Николая Михайловича и Константина Константиновича (Медведев, 2018: 113). Под гипнотическим воздействием мифов и легенд Востока и о Востоке находился и сам царь Николай II (Суворов, 2012: 79–80).
В ходе турне Э. Ухтомский вместе с цесаревичем посетил Австрию, Грецию, Египет, Индию, Шри-Ланку, Сингапур. В апреле 1891 г. из Вьетнама наследник престола прибыл в Империю Цин. Цесаревич и его сопровождение побывали на острове Гонконг, в городе Кантон (ныне – г. Гуанчжоу) провинции Гуандун, спустились по реке Янцзы в город Ханькоу (ныне – часть г. Ухань).
В «Путешествии на Восток наследника цесаревича» Э. Ухтомского3, несмотря на его новаторскую позицию в отношении народов Азии, Китай предстает все-таки культурной экзотикой, поэтому описания этой страны изобилуют вниманием к местным диковинкам и эмоциями удивления в отношении обычаев аборигенов. Автор неоднократно возвращается к описанию кули – распространенного в Китае во второй половине XIX – первой половине ХХ вв. (до 1949 г.) транспорта – повозки, движимой человеком (китайские рикши). Так, Э. Ухтомский отмечает, что ни в Гонконге, ни в Кантоне не пользуются лошадьми из-за тесной застройки улиц, «довольствуясь мускулами кули»4. «Первое впечатление от своего рода “езды на людях”, – говорит он, – в высшей степени странно, неприятно и даже зазорно»5.
Восхищение же вызывают у путешественников «серебряные сервизы, веера из слоновой кости с узорчатой отделкой, шахматы, шкафы различной величины, тонкая резная мебель из дерева с Борнео, изящные корзинки для цветов, бронзовые курильницы, гигантские вазы и вышивки всевозможных цветов, маленькие, чрезвычайно точные модели судов, повозок, разных производств и т.п.»6.
«Путешествие на Восток наследника цесаревича» дополнено гравюрами и фотографиями, на которых – наиболее интересные артефакты китайской культуры конца XIX в.: портреты рабочих, ребенка, чиновников, улицы Гонконга и Ханькоу, причал Кантона, изображение богини Гуа-ньинь, китайские вазы, чайное производство и пр. Конечно же, уделяется внимание экзотичной национальной кухне. Э. Ухтомский отмечает, что «богатые китайцы – тончайшие гастрономы», а «поваренное искусство в Небесной империи не уступает европейскому. Надо только привыкнуть к употреблению в слишком значительной дозе масла, лука и чеснока. Европеец с самым прихотливым вкусом найдет, чем полакомиться на хорошем туземном обеде. Первое место в числе деликатесов занимают соленые цыплята, необыкновенно пожаренные утки, рыбы под сладким соусом, бомбейские плавники акул в курином супе, лежалые голубиные яйца вкрутую, разведенные в горячей воде полупрозрачные ласточкины гнезда»7.
Особый восторг у путешественников вызывают разнообразные сорта китайского чая. «Нам подносят неподслащенный душистый чай с плавающими в нем листиками: на чашки положены блюдечки, чтобы удерживать нежный аромат. Пьешь несравненный по качествам туземный напиток, слегка отодвигая крышечку. Разговора нет: благовоспитанные люди желтой расы, согласно обычаю, встречают и угощают высоких посетителей молча»8. Тема чая, к которой сводится почти любой разговор «на родине и в мире» этого напитка, обязательно сочетается с колониальными мотивами: Китай воспринимается почти исключительно как регион производства чая и его поставок по всему миру, в том числе в Россию, поэтому на территории Китая действует несколько русских компаний, торгующих цветочным, зеленым, черным, желтым, кирпичным и байховым чаями1.
Однако в описаниях и оценках реалий повседневной жизни Китая, представленных Э. Ухтомским, сквозит снисходительная ирония, продиктованная европоцентристскими и колониальными установками конца XIX в. По мнению автора «Путешествия на Восток наследника цесаревича», одновременно затейливы, вычурны и курьезны «надписи над туземными магазинами: “Нескончаемый успех”, “Непрерывное счастье”, “Небесное благополучие”»2. В духе европоцентризма Э. Ухтомский удивляется, что «полудикая масса» людей «желтой расы» отличается дисциплинированностью. Вызывают у него насмешку, например, телохранители Ли Ханчжана, костюмы которых включают «кроме оружия, зонтики и веера, а также надписи на спине об их воинской доблести»3. В духе европейского колониализма Э. Ухтомский называет аборигенов Гонконга «отъявленными плутами»4.
Подчеркивается также хозяйственно-экономическая и бытовая отсталость китайского народа. Например, пристань в столице провинции Гуандун – городе Кантон – оценивается дипломатом как «убогая и грязная», улочки города – «невзрачные и узкие»5, а «низкие невзрачные» жилища представляются «бесформенной серой сплошной массой»6.
Местных жителей Э. Ухтомский в традициях конца XIX в. в своем произведении именует туземцами, то есть аборигенами. Первоначально слово «туземец», образованное сложением местоимения «ту(т)» и устаревшего существительного «земьць» («житель»), не содержало негативной коннотации и обозначало местного жителя, «уроженца какой-либо местности»7. Уничижающий оттенок смысла у слова «туземец» появился из-за противопоставления аборигенов далекой и слаборазвитой страны цивилизованным иностранцам и приезжим8. Так, например, в китайских городах имеются кварталы европейские и «туземные». При этом первые описываются как цивилизованные – комфортабельные виллы, банки, лавки, а во вторых «ютится длиннокосый люд»9.
Гости из России с интересом обсуждают вопрос о производстве наркотиков в Китае, где, по замечанию Э. Ухтомского, сложилась «чрезвычайно обширная культура» их потребления10.
По описаниям князя, четверть из полутора миллионов жителей столицы Гуандуна обитают «первобытно». «Целые поколения родятся и умирают на зыбкой почве плавучих жилищ – кибиток, сплетенных из тростника и покрытых рогожкой, перед которыми на корме приготовляется варево, играют ребятишки и сушится тряпье, а иногда еще чуть ли не разводится маленький огород»11.
Отсталость, запущенность, убогость часто объясняются Э. Ухтомским неспособностью азиатских народов к активной хозяйственно-экономической деятельности. В соответствии со своими идеями превосходства России над азиатскими народами дипломат указывает на их пассивность в духовно-интеллектуальной и производственной сферах, не забывая при этом восхищаться восточными диковинками.
«Идеи Э.Э. Ухтомского представляли собой необычное сочетание восхищения китайской культурой с призывом к установлению российского господства» над ней (Лукин, 2007: 98). Так, например, князь характеризует китайских моряков на военных судах как «превосходный сырой ма-териал»12: несмотря на их «природное» мореходное мастерство, им не хватает не только организации, выучки, научных знаний и знаний европейской тактики, но и «чего-то высшего, чтобы стать на один уровень по качеству и составу с флотами других даже менее выдающихся государств – нет офицеров, нет боевых традиций и военного духа!»13. Таким образом, в данной оценке Э. Ухтомский расписывается сразу и в незнании истории и культуры китайской цивилизации, и в осуждаемом им же самим европоцентристском взгляде на народы Востока, и в отказе последним в равенстве с народом русским. Во время посещения китайской военно-морской школы, где преподают немецкие офицеры, князь опять замечает, что у «сынов Небесной Империи» «много доброго намерения и старания» в выучке, но «совершенно отсутствует военный дух»1. Однако давление на Китай «заморских варваров» уже привело его жителей к сознанию, «что надо отражать противника его же оружием» (Ухтомский, 2019: 310), этим и объясняются попытки китайцев овладеть европейскими знаниями, что указывает на прогнозируемое тем же Э. Ухтомским «пробуждение Востока».
Поэтому вполне закономерной дипломат считает колониальную политику европейских держав в отношении Китая. В «Путешествии на Восток наследника цесаревича» особое внимание уделяется развитию европейских колоний на территории этой страны – английских, французских, германских, португальских. Отмечается, например, что «доходы гениально задуманной колонии растут не по дням, а по часам»2, а торговый оборот британских колоний в Китае достигает 450 млн руб.3 В другом месте своих зарисовок князь замечает: «До чего же искусно умеет обставлять себя всеми прелестями материального существования стремящийся в экзотические страны британский народ!»4. В описании живописной «Счастливой долины» (Happy Valley) – британской колонии в Китае – Э. Ухтомский равнодушно отмечает, что «азиатам почему-то безусловно воспрещен доступ к надгробным плитам европейцев»5. Автор заметок приходит к выводу, что китайские власти «в данную минуту бессильны выдворить хотя бы горсть европейцев из пределов провинции»6. Таким образом, в контексте дихотомии «колониализм – антиколониализм» позиция Э. Ухтомского осталась противоречивой, поскольку ему при всем его востокофильстве так и не удалось в идейном смысле последовательно придерживаться вектора преодоления превосходства и неравенства одних народов над другими (Ашихмин, 2021: 51). Огромный интерес этого и других исследователей к восточным культурам и буддизму продолжал восприниматься в обществе как «аристократическая забава, интеллектуальная игра и чудачество» (Ашихмин, 2021: 51).
Анализируя ситуацию в Гонконге, Э. Ухтомский склонялся к мысли, что именно России должна быть отведена роль защитника Китая, а также посредника между ним и притесняющими его колониальными державами. «Кто и что спасет Китай, – восклицает князь, – как целое от распадения и чужого ига? Мне думается, только Россия»7. Это восклицание князь повторит в заметках 1900 г. «К событиям в Китае: об отношениях Запада и России к Востоку»8.
Э. Ухтомский замечает крайне негативное отношение китайцев к представителям европейских колониальных держав в противовес уважительному и дружелюбному – к делегации из России. По сведениям князя, недавно посетивший дельту Жемчужной реки (Чжуцзян) принц Бонапарт не удостоился «простой аудиенции у вице-короля», английский вице-адмирал Гамильтон получил отказ в приеме, «заместитель богдыхана в крае с извинениями уклонился» от встречи с командиром австрийского военного судна9, поскольку «Кантон по-прежнему враждебно относится к представителям Запада. Встречать их с почетом по правилам гостеприимства, оказывать ненавистным иноземцам учтиво-радушный прием здесь… почти немыслимо для китайца-патриота»10.
Гостеприимному же отношению китайцев к цесаревичу и его свите уделяется значительное место на страницах «Путешествия на Восток наследника цесаревича». Сопровождающий наследника представитель китайской стороны поясняет, что его «правительством предприняты все меры, чтобы не только радушно, но и тожественно встретить русского престолонаследника на китайской территории, почтить в его лице своего давнего и лучшего друга – Россию, красноречиво доказать свою готовность впредь еще теснее упрочить с ней добрососедские связи»11. Наследника российского престола встречает и приветствует сам генерал-губернатор (Цзун-ду) – престарелый Ли Хан-чжан. В честь высокого гостя из России был дан завтрак, причем «лишь в знак чрезвычайного расположения» китайская сторона позволила сопровождать цесаревича вооруженным матросам. Для него приготовлены носилки желтого цвета, «составляющие принадлежность исключительно Сына Неба и вдовствующей императрицы»12. Э. Ухтомский обращает внимание на то, что «ни одного именитейшего иностранца население никогда не видало открыто приравненным земному владыке высшего порядка»1. На протяжении всего путешествия по Китаю будущего царя Николая II принимали с «неслыханными» – императорскими – почестями: музыкой, салютами, фейерверками, иллюминацией. Делегация цесаревича расценила такой прием как успех российской дипломатии и основу для реализации дальнейших планов в отношении Китая. Благорасположение к наследнику престола воспринимается Э. Ухтомским как доказательство родства двух народов, одинаково почитающих верховную власть, с одной стороны, и как начало развития их благоприятных отношений, – с другой, поскольку китайская сторона уже глубоко почитает русского правителя, в котором видится залог единства этих народов, а без самодержавия Азия «не способна искренне полюбить Россию и безболезненно отождествиться с нею»2. Э. Ухтомский был глубоко уверен, что «население Тибета и Монголии на рубеже XIX–XX вв. уже готово было перейти под покровительство Российской империи» (Суворов, 2015 б: 116).
Свое культурное превосходство над китайским народом автор «Путешествия на Восток наследника цесаревича» неосознанно выражает и в тех случаях, когда вслед за И.А. Гончаровым, говорившим: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах»3, уподобляет реалии восточной культуры понятным и знакомым элементам своей собственной. Всякий «искомый результат путешествия – это параллель между чужим и своим»4, что и является следствием «освоения» и «присвоения» чужой культуры в колониальном духе, демонстрируемом в очередной раз в подходе Э. Ухтомского. Так, китайские «нежные финифтяные произведения» уподобляются известным арабским орнаментам5, а Ханькоу – «цветущий культурный край» – успокаивающе «начинает напоминать Среднюю Европу»6.
Э. Ухтомский развенчивает миф о сонливости восточных народов, поскольку наблюдает кипучую деятельность кантонцев: правят лодками «мускулистые бабы», гребут на легких челноках «миловидные девушки с распущенной косой», на реке – суета и активное движение7. В поздней своей работе князь замечает, что его первичные выводы об отсталости Китая были по-спешны8. Анализируя состояние дел в Китае на рубеже XIX–XX вв., Э. Ухтомский отмечает его успехи в образовании, торговле, развитии связи и транспорта, добыче ископаемых (железа и каменного угля) и производстве шелка, шерсти, хлопка, в создании колоний в Южной Америке, на островах Тихого океана и пр., в быстром и рациональном усвоении знаний, наук и опыта европейцев, что, по его мнению, приведет к появлению в Азии «просвещеннейшей нации» – китай-цев9. Этому способствует характерное для их цивилизации «глубокое уважение к наукам», упорство в достижении знаний и трудолюбие10.
Разгадывая «величайшую загадку» китайского народа, Э. Ухтомский отмечает его двойственность, поскольку европейцами остаются незамеченными духовные богатство и мощь китайского народа11, но в его характере «уживаются самые разнообразные противоречия: блестящие достоинства наряду с самыми отвратительными недостатками»12.
Дипломат считает, что мир находится накануне важных событий и перемен, поскольку Китай – «добродушный великан», находящийся в состоянии застоя, – вскоре будет выведен из него внешним импульсом13, «захочет относительной власти, славы и богатства, успеха и значения в сонме других наций, преобладания на Тихом океане»14 и вступит в «новую мировую жизнь»15.
Э. Ухтомский отмечает, что «не существует ясно очерченного рубежа, естественно точной демаркационной линии», разделяющих Россию и Китай16. Восточная традиция естественным образом вплетается в русскую культуру, которая лишь поверхностно усвоила западную дисциплину, сохранив в глубине собственные умозрения и верования17.
Масштабные геополитические процессы первой четверти XXI в. вновь актуализировали проблему российской культурной и цивилизационной идентичности. В современных условиях, когда ориентация на западные ценности и модель невозможны, Россия в очередной раз осуществляет цивилизационный выбор. «В качестве идейного противовеса явно доминирующему в последние годы варианту развития, который принято обозначать как “особый путь”, постепенно будет выдвигаться направление развития России как страны, которая, в первую очередь, является частью суперцивилизации Востока» (Мальченков, Батяев, 2022: 35–36). В решении идейных проблем, возникших перед российским обществом на современном этапе, стоит обратиться к опыту предыдущих поколений русских мыслителей, искавших ответы на подобные вопросы на рубеже XIX–XX вв., чтобы учесть их достижения и избежать повторных ошибок. Так, невозможно переоценить вклад Э.Э. Ухтомского и восточничества в исследование восточноазиатской культуры и политики. Именно его труды сформировали и дополнили картину жизни Империи Цин в конце XIX – начале XX вв., описав ее как страну двойственную – обладающую мощным материальный и духовным потенциалом, но политически одряхлевшую и бессильную, раздираемую внутренними противоречиями, угнетаемую и разграбляемую ненасытными западноевропейскими колонизаторами. Э.Э. Ухтомский был уверен, что пока еще экономически отсталый, переживающий застой Китай станет вскоре основным политическим игроком в Дальневосточном регионе и не только, поскольку его народ обладает богатыми культурными традициями, внутренней духовной мощью, а также способностью быстро, без ущерба для себя усваивать разнообразный опыт Западной Европы, сохраняя свои цивилизационные черты.
Безусловно, заслуживает внимания предложенный Э.Э. Ухтомским подход в сфере сотрудничества с Китаем и другими странами Азии, основанный на учете культурно-исторических особенностей народов и регионов Дальнего Востока, а также на принципе равноправия взаимодействующих сторон.
Э.Э. Ухтомский с позиций восточничества внес вклад в последовательную критику Запада (Суворов, 2012: 80), в развитие представлений о российской идентичности, обнаружив присутствие черт и элементов восточной культуры в специфике русской цивилизации и обосновав общность их народов.
Однако в своей концепции Э.Э. Ухтомский не преодолел влияния европоцентристских установок, поэтому сконструированный им образ Китая рубежа XIX–XX вв. экзотичен, что влечет за собой двойственное к этой стране отношение: искренний интерес и восхищение диковинностью «заморских» порядков, но и ощущение превосходства над образом жизни «туземцев». Этому особенно способствует предположение Э.Э. Ухтомского об особой посреднической роли России в отношениях европейских держав с китайским и другими азиатскими народами. Для последних Россия должна стать не только защитником их интересов, но и руководителем. В противном случае, опоздав, она рискует потерять влияние и приобрести опасных конкурентов и противников в восточноазиатском регионе. «Являясь духовным борцом за сближение России и Азии, князь все же находился в зависимости от имперских предубеждений колониального порядка» (Ашихмин, 2021: 53), его взгляды и деятельность способствовали «имперскому мифотворчеству» в отношении проблем восточноазиатских народов и положения России на Дальнем Востоке (Ашихмин, 2021: 53). Идеи князя оценивались современниками как «мистико-политические», а гипотеза – как «сентиментальная фикция» (Суворов, 2015 б: 117).
К сожалению, взгляды Э.Э. Ухтомского, мифологизированные, пронизанные романтизмом и идеализмом, носившие поэтический и публицистический характер, не были реализованы в конкретной политической программе укрепления и расширения российского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а после поражения Российской империи в Русско-японской войне были отброшены и забыты как устаревшие, поскольку расклад политических сил в Восточной Азии после 1905 г. изменился коренным образом. Однако концепция Э.Э. Ухтомского – это одна из попыток изменить подходы к анализу межэтнических и межгосударственных отношений, движение к универсалистскому пониманию стран, государств и народов (Стрижак, 2012: 56).
Современная ситуация в мире предлагает России в качестве партнеров Китай и Индию, близких ей «в их совместном объективном ценностно-смысловом противостоянии Западу в качестве особых “стран-цивилизаций”, вынужденных осуществлять политику “догоняющего развития” без утраты своей цивилизационной идентичности» (Гранин, 2021: 94). В свете этого интеллектуальное наследие Э.Э. Ухтомского, который обоснованно предсказал укрепление и возвышение Китая в регионе и в мире, превращение Азии в один из полюсов и центров мирового развития, требует свежего взгляда и актуализации.
Список литературы Образы Китая в наследии Э.Э. Ухтомского
- Ашихмин А.В. Концепты «колониализм» и «антиколониализм» в оценках интеллектуального наследия князя Э.Э. Ухтомского (1861-1921) // RUSAD. Rusya Ara§tirmalari Dergisi. 2021. № 6. С. 44-56.
- Бардовский А.В. Поворот России на Восток в контексте укрепления региональной и глобальной безопасности в Азии // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2023. Т. 25, № 1. С. 97-105.
- Владимирова Д.А., Давыборец Е.Н., Радиков И.В. «Поворот России на Восток»: новые вызовы и возможности в развитии дальневосточного региона // Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28, № 3. С. 36-47. https://doi.org/10.21209/2227-9245-2022-28-3-36-47.
- Гаспарян В.З. Проект «Желтороссия» в контексте мировоззренческого кризиса русского «восточничества» на рубеже XIX-XX вв. // Архонт. 2018. № 3 (6). С. 115-118.
- Гранин Ю.Д. Россия и альянсы Евразии. Поворот на Восток перед лицом вызовов Запада // Свободная мысль. 2021. № 5 (1689). С. 91-104.
- Кирмель А.Д. Образ Китая в произведениях Э.Э. Ухтомского // Clio Moderna-2: европейские историко-культурные исследования в контексте глобальной истории. Екатеринбург, 2022. С. 22-27.
- Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-XXI веках. М., 2007. 598 с.
- Мальченков С.А., Батяев Р.А. Цивилизационный поворот России к Востоку: идейные основы и культурные механизмы // Контентус. 2022. № 7 (120). С. 34-41.
- Медведев К.А. «Восточничество» Э.Э. Ухтомского: основы формирования геополитической концепции // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2018. № 4 (14). С. 106-118. https://doi.org/10.28995/2073-6339-2018-4-106-118.
- Стрижак Ю.Н. Вл. Соловьев и кн. Э.Э. Ухтомский: личное общение и судьбы России // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13 (304). С. 153-158.
- Стрижак Ю.Н. Восточничество кн. Э.Э Ухтомского // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2012. Т. 2, № 4. С. 50-58.
- Суворов В.В. «Восточничество»: культурно-историческая концепция и имперская идеология. Саратов, 2015 а. 107 с.
- Суворов В.В. Место «восточничества» в российской общественной мысли // Власть. 2012. № 12. С. 78-80.
- Суворов В.В. Самодержавие и стратегия мирного расширения России в Азии в концепции «восточничества» // Власть. 2015 б. № 11. С. 115-118.
- Суворов В.В. Э.Э. Ухтомский и С.Н. Сыромятников об исторических задачах России в контексте рассуждений о «желтой опасности» // Манускрипт. 2018. № 8. С. 38-41. https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-8.8.
- Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М., 2009. 421 с.
- Ходяков М.В. Желтороссия конца XIX - начала ХХ века в геополитических планах русской военной элиты // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 4. С. 880-897. https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2018.406.