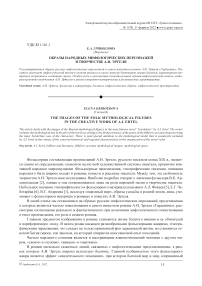Образы народных мифологических персонажей в творчестве А.И. Эртеля
Автор: Грибоедова Елена Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются образы русских мифологических персонажей в самом известном романе А.И. Эртеля «Гарденины». Писатель включает мифологический текст в сюжет романа согласно живому бытованию жанра былички, характеризуя внутреннее пограничное состояние героев. Особую роль в организации сюжета романа играет мифологическая модель, которая органично включается А.И. Эртелем в рамки конкретно-исторических и региональных характеристик.
А.и. эртель, фольклор и литература, быличка, мифологические образы, мифологическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/148324008
IDR: 148324008 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Образы народных мифологических персонажей в творчестве А.И. Эртеля
Фольклорная составляющая произведений А.И. Эртеля, русского писателя конца XIX в., является одним из определяющих элементов целостной художественной системы писателя, органично впитавшей народное мироощущение. Фольклорные произведения, этнографические сведения, описания народного быта широко входят в романы, повести и рассказы писателя. Между тем, эта особенность творчества А.И. Эртеля мало исследована. Наиболее подробно говорит о значении фольклора В.К. Архангельская [2], однако и она останавливается лишь на роли народной песни в творчестве писателя. На большое значение этнографического и фольклорного материала указывают А.Л. Фокеев [5], Е.Г. Чеботарёва [6]. В.Г. Андреева [1], исследуя «народный мир», образы усадьбы и родной земли, лишь упоминает о фольклорном материале в романах и повестях А.И. Эртеля.
В своей статье мы остановимся на образах русских мифологических персонажей, представления о которых являются частью повествования в самом известном романе А.И. Эртеля «Гарденины», рассмотрим соотношение реального и фантастического при включении мифологического повествования в текст произведения, его роль в сюжете романа.
Главным предметом изображения в романе становится жизнь богатого имения и ее обитателей в пореформенную эпоху. В целом роман насыщен разнообразными фольклорными жанрами, этнографическими зарисовками, что создает не только привычный фон деревенской жизни, но становится основой бытия героев, тем законом, на который опирается многовековой опыт поколений.
Частью народного сознания является и выстраивание взаимоотношений человека с другим миром, «своим» и «чужим», «живым» и «мертвым».
В романе несколько сюжетных линий, связанных с мифологическими представлениями, в рамках которых А.И. Эртель широко использует быличку. Главной особенностью этого фольклорного жанра является эффект «свидетельского показания», при котором бытовой мир и мир, сопряженный с мифологическим осмыслением реальности, сливаются воедино. Эта «сопредельность» мифологического мира былички используется А.И. Эртелем для характеристики пограничного состояния героев. Особенностью былички является то, что она рождается и рассказывается при определенных условиях, в особое время и в особом месте, т. е. само пространство и время нередко провоцируют ситуацию встречи с представителями иного мира.
Герой романа Николай Рахманый находится в начале начале жизненного пути. Герой пытается найти свое место в жизни, определить дальнейший путь. По социальному положению герой занимает промежуточную позицию между помещиками и крестьянами. Однако жизнь простых людей ему близка, он впитывает в себя народную систему ценностей, народное мироощущение. Образ Николая Рах-маного в романе писатель связывает и с народной песней, и с легендой, и с быличкой.
Не только социальное положение, но и внутренние противоречия, душевный разлад и неопределенность жизненного пути героя составляют неустойчивое самоощущение Николая и определяют его восприимчивость к народным представлениям о сверхъестественном.
Герой слышит рассказ о ведьме в конце дня, на страстной неделе, после дневных разговоров о Великом Посте, о христианской религии со своим духовным наставником, после встречи с купцом-книгочеем, обещавшим познакомить Николая с книжными новинками. Размышления о назначении человека, о способах познания и изменения мира сменяются повседневными общением с деревенскими друзьями. Встреча с приятелем в конюшне, рассказы о событиях дня, приводят к неожиданному, и в то же время закономерному, разговору о сверхъестественном. Федотка, приятель главного героя, находясь под впечатлением таинственной и необычной жизни конюшни, рассказывает быличку о встрече некоего Гараськи с ведьмой: «Козлиха, говорят, оборачивается – Алешкина мать. Прямо ударится оземь – во что захочешь оборотится. В позапрошлом году ее у Гомозковых чуть-чуть не прихватили: повадилась коров выдаивать. Гараська взял дубину, сел и ну давай ее караулить. Две ночи сидел, на третью глядит – пришла; он ка-а-ак дубиной гвозданет!.. Козлиха-то как шарахнется, только ее и видели. <…> Ведьму-то он видел... Так, говорит, махонькая из себя, востренькая. Опосля того дело-то разобрали: ему что надо было? Ему первым долгом надо было сорвать с себя гашник, да гашником-то и обратать окаянную, да тогда уж и молотить дубинкой. Она никак не может себя оказать супротив гашника. Нечисть, брат... к ней нужно подступать умеючи» [7, Т. I, с. 230].
Описание ведьмы в романе соответствует общенародным представлениям: ведьма и в современных записях, и по исследованиям XIX в. - маленькая старая женщина, одетая в белое, обладающая способностью оборачиваться в различные предметы или животных, оберегом от ведьмы является «гашник»*, пояс.
Рассказ Федотки на этом не заканчивается, он вспоминает о собственной встрече с потусторонним миром, с «хозяином» - домовом, посетившем конюшню. Вторую быличку А.И. Эртель включает в текст романа по законам бытования этого жанра. По наблюдению Э.В. Померанцевой, «обычно одна быличка влечет за собой цепь аналогичных рассказов, так как содержание былички, в отличие от сказки, не исчерпывается рассказанным, не ограничивается рамками одного сюжета, а выплескивается за их пределы, настраивая слушателей на восприятие дальнейших впечатлений от неизвестного, таинственного и страшного мира» [4, с. 20]. Таким образом, с помощью быличек писатель усиливает мифологический мотив, подчеркивает неопределенность внутреннего состояния главного героя.
В момент рассказа Николай не готов поверить приятелю, он подвергает сомнению существование ведьм и домовых, но сами рассказы уже сформировали у него соответствующее настроение, именно поэтому он подсознательно ждет появления ведьмы в каждом ночном шорохе: «Вдруг от темноты сада оторвалось что-то белое, исчезло в канаве, вынырнуло и клубком с необыкновенной быстротой покатилось в степь, по направлению к Николаю... “А!” – вырвалось у него жалким, звенящим звуком, дыхание перехватило, сердце упало. Не помня себя, он бросился бежать. Не успев подумать хорошенько, он всем существом своим почувствовал, что это – ведьма, Козлиха. Земля убегала под ним; за спиною ясно раздавался спутанный, мелкий топот: то, что догоняло, несомненно было на трех ногах и по временам мчалось как клубок – котом» [7, Т. I, c. 242].
Сумеречное, ночное время – время встречи с потусторонним миром, но с рассветом реальность побеждает, герой вспоминает о своем «грехе» - о том, что ел яичницу на страстной неделе, об исповеди. А.И. Эртель с иронией повествует о том, как Николай, вспомнив один из рассказов своего наставника столяра, решает сам наказать себя за грех. Он терпит причиняемую себе боль и в воображении уже представляет себя «аввой Николаем», слухом о котором полнится земля. Христианское и мифологическое соединяется в мыслях героя, подчеркивая несформированность его мировоззрения, неопределенность его жизненного пути.
Кроме того, такое наслоение христианских и языческих в своей основе представлений, смешение былички и легенды в комическом свете представляет сознание Николая, еще не устоявшееся, молодое, впитавшее народную традицию. В представлениях героя на тему своей будущей широкой известности в качестве «аввы Николая» А.И. Эртель берет в основу не книжную, а устную традицию, передающуюся из уст в уста легенду: «стоит только захотеть – и можно уйти в пустыню и сделаться великим подвижником, и тогда далеко будут говорить: “Слышали? Слышали? Авва Николай объявился... сияние вокруг него... исцеляет... бесы его боятся...”» [Там же].
В этом эпизоде писатель противопоставляет христианское и языческое. Но это противопоставление не выходит на уровень оппозиции, поскольку в понимании А.И. Эртеля в народной традиции христианское и языческое является одним целым. Именно поэтому в сознании Николая мысли о Боге и грехе не мешают ему бояться появления ведьмы.
Однако не только главный герой, находясь в пограничном состоянии, встречается с потусторонним миром. Измена жены заставляет другого героя, столяра Ивана Федотыча задуматься о верности своих жизненных установок. Сомнение в их правильности появляется перед Иваном Федотычем в образе мертвеца Емельяна, который при жизни уже раз испытал твердость убеждений столяра. В данном эпизоде герой становится перед лицом пришельца с «того света».
Образ мертвеца Емельяна, уводящего Ивана Федотыча в поле, к реке и обрыву, подталкивающего столяра к убийству жены или самоубийству, предстает как второе «я» Ивана Федотыча. Спор с Емельяном о правомерности убийства жены является очередным преодолением себя на пути к истинной любви, на пути к Богу.
Образ мертвеца Емельяна связан с традиционным персонажем былички – мертвецом. Он ведет себя в соответствии с народными представлениями об этом персонаже [3]:
-
1. Мертвец появляется перед человеком в облике знакомого.
-
2. Мертвец уводит героя из «своего» пространства в «чужое», в данном случае «чужим» пространством является поле.
-
3. Мертвец подталкивает героя к преступлению.
-
4. Мертвец подталкивает героя к убийству.
Таким образом, подчиняя цитирование былички в рамках сюжета романа своему замыслу, А.И. Эр-тель сохраняет традиционную структуру этого жанра, традиционных персонажей и их функцию.
Однако большая часть языческих представлений в романе связана с коннозаводской линией.
Небольшая группа крестьян, связанных с конезаводом имения, находится на особом положении среди односельчан. На конюшне каждый несет ответственность за выполненную работу, все на заводе работают ради успеха общего дела. Так сложилось, что единовластным хозяином конюшен является Капитон Аверьяныч, бывший крепостной, а ныне главный конюший. Его власти, грозного взгляда, тяжелой руки боятся все подчиненные. Вторым главным человеком на конюшне должен быть наездник. От его умения, отваги, профессионализма во многом зависит престиж завода, успехи на скачках. А.И. Эртель с самого начала вводит читателя в таинственный мир конюшни: самые первые сцены связывают мир конезавода с неким «словом», с ворожбой.
Хороший наездник, с точки зрения крестьян, обязательно связан с тайным знанием «слова»: успех, призы для наездника невозможны без этого знания, а то и без помощи колдуна. Именно по этому поводу герои А.И. Эртеля часто говорят: «без каверинского колдуна как без рук. Что съездит к нему, то и возьмет приз, что съездит, то и возьмет. Ужели мы не понимаем. Да, все, брат, на слове держится» [7, Т. I, с. 123].
Первый гарденинский наездник Онисим Варфоломеич строит свое поведение в соответствии с занимаемым статусом. Он не касается черной работы, однако не забывает продемонстрировать своим подчиненным знание особого «тайного слова». Читатель впервые видит Онисима, когда он что-то шепчет над кормом для коня. Упоминание о знании «тайного слова» также отсылает нас к жанру былички. Использование «слова» намекает на некую значительность образа Онисима, однако дальнейшее развитие сюжета доказывает обратное. Писатель противопоставляет истинную сущность героя и его внешнюю значительность. На деле оказывается, что Онисим Варфоломеич тщеславен, мелочен, трусоват. Имитация знания «слова» не обманывает окружающих.
Только с этим героем писатель связывает жанр суеверий: «Вот оно... самовар-то гудел в субботу, – прошептала маменька, вытирая уголочком платка набегавшие слезы, – уж чуяло мое сердце – не к добру, чуяло – недаром гудит проклятый!» [Там же, с. 263].
С точки зрения крестьян знание «тайного слова» безусловно обозначает особую силу человека. После позорного изгнания Онисима из гарденинских конюшен, ему на смену приходит другой наездник Ефим. Он наделяется связью с таинственным. Однако это проявляется лишь в кульминационных эпизодах, связанных со скачкой. А.И. Эртель включает в текст романа быль о происхождении Ефима. Этот рассказ на наших глазах обрастает мифологическими подробностями, и читатель становится свидетелем рождения суеверного рассказа. Уже при следующем пересказе этой истории Ефим наделяется не просто «дурной кровью», плохой наследственностью, он уже называется «сатанинским отродьем», «проклятым» и «колдуном». Быль перерастает в быличку. Кроме того, что Ефим имеет плохую родословную, в Хреновом, на скачках, его возлюбленной становится, по мнению окружающих, настоящая ведьма: «Вот Маринка – ведьма. У ней ноги коровьи… Когда в башмаках – незаметно, <…> а я раз заглянул – она спит, тулупом накрылась... а из-под тулупа ноги: одна – в чулке, а другая – коровья… Она и оборачивается… Прошлую ночь в свинью обратилась… Отец только слово, что запирает ее: придет полночь, шарк! - и готова... Сам видел, как белым холстом из окошка вылетела <…> Приметила – я иду, зашла за угол, трах! – в белую курицу оборотилась» [7, Т. II, с. 155].
Таким образом, в отличие от Онисима, Ефим в глазах крестьян становится настоящим героем бы-лички, находясь на границе между реальным и потусторонним миром.
- Мифологические рассказы в данную сюжетную линию писатель включает по принципу усиления, что соответствует законам естественного бытования этого жанра фольклора. Концом конезавода, концом старого уклада жизни можно считать самоубийство главного конюшего, не выдержавшего целого ряда потрясений. Самоубийство воспринято жителями села также в духе мифологических традиций. А.И. Эртель связывает со смертью конюшего мотив «заложенности». По народным представлениям душа самоубийцы не находит успокоения и остается на земле, бродит среди живых в виде мертвеца. Именно так видят главного конюшего после его смерти: «Кому-то привиделся конюший в коридоре рысистого отделения, кто-то “своими глазами” видел, будто мертвец ходил в манеже, кузнец Ермил встретил его на перекрестке, в деннике Любезного в самую полночь слышали тяжкие вздохи» [Там же, c. 288] .
Появление конюшего-мертвеца не только является следствием сформировавшихся мифологических представлений о мире конезавода, но и признаком границы времен. Старое уходит, новое неизвестно и не предвещает ничего хорошего. Мотив пограничности обыгрывается А.И. Эртелем и в антропоморфном образе холеры в виде женщины в черном, которая приходит в имение. Вместе с появлением мертвеца, женщины-холеры из села уходят традиционные занятия, умирают приверженцы старых традиций, бывшие крепостные, традиционный труд лишается радости и народной песни.
Таким образом, народные представления о мифологических персонажах не только включены в сюжет по законам бытования этого жанра с соблюдением пространственно-временных характеристик, но и автор сохраняет и структуру развития сюжета былички, располагая мифологические сюжеты по принципу усиления.
Мифологические представления в романе характеризуют пограничное состояние героев (между детством и молодостью, между праздностью и сознательным делом, между ненавистью и любовью), но и их мировоззрение, органично соединяющее в себе христианское и суеверное. Встреча с персонажами из «другого мира» обозначает поворот не только в судьбе героев, но начало нового времени для всего крестьянского мира в целом.
Список литературы Образы народных мифологических персонажей в творчестве А.И. Эртеля
- Андреева В.Г. Народный мир в романе А.И. Эртеля "Гарденины, их дворня, приверженцы и враги" // Духовно-нравственные основы русской литературы: сб. науч. ст. Кострома, 2020. С. 71-74.
- Архангельская В.К. Народническая беллетристика // Русская литература и фольклор (конец XIX в.). Л., 1987. С. 194-274.
- Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Вып. VI. Былички и бывальщины Воронежского края / Составитель Пухова Т.Ф. Воронеж: ВГУ, 2008.
- Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975.
- Фокеев А.Л. Этнографическое направление в русском литературном процессе XIX века: Истоки, тип творчества, история развития: дисс. д-ра филол. наук. М., 2004.
- Чеботарева Е.Г. Народническая беллетристика в литературном процессе 70-80-х гг. XIX века: генезис, типология: дисс.. канд. филол. наук. Саратов, 2009.
- Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги / подготовка текста, вступительная статья и комментарии А. Лежнева. М.; Л.: Academia, 1933.