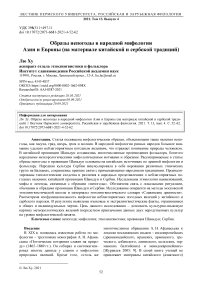Образы непогоды в народной мифологии Азии и Европы (на материале китайской и сербской традиций)
Автор: Лю Ху
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена мифологическим образам, объясняющим такие явления непогоды, как засуха, град, вихрь, гром и молния. В народной мифологии разных народов большое внимание уделено неблагоприятным погодным явлениям, что отражает понимание природы человеком. В китайской провинции Шаньдун создавались многочисленные произведения фольклора, богатого народными метеорологическими мифологическими мотивами и образами. Рассматриваемые в статье образы непогоды в провинции Шаньдун основаны на китайских источниках по древней мифологии и фольклору. Народная культура Сербии аккумулировала в себе верования различных этнических групп на Балканах, сохранялись крепкие связи с примыкающими народными традициями. Проанализированы типологические сходства и различия в народных представлениях о неблагоприятных погодных явлениях китайской провинции Шаньдун и Сербии. Исследованы этимология наименований, мифы и легенды, связанные с образами непогоды. Обозначена связь с локальными ритуалами, обычаями и обрядами провинции Шаньдун и Сербии. Исследование опирается на методы московской этнолингвистической школы и материалы этнолингвистического словаря Славянские древности. Рассмотрена изофункциональность мифологии неблагоприятных погодных явлений у китайского и сербского народов. В результате выявлены языковые и экстралингвистические факты, отразившиеся в общих и индивидуальных чертах. Цель данного исследования - дополнить культурно-языковую картину метеорологических явлений посредством привлечения данных двух неродственных культур на уровне мифологической памяти.
Непогода, мифология, этнолингвистика, провинция шаньдун, сербия
Короткий адрес: https://sciup.org/147236778
IDR: 147236778 | УДК: 398(511+497.11 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-4-52-62
Текст научной статьи Образы непогоды в народной мифологии Азии и Европы (на материале китайской и сербской традиций)
В XIX в. появилась известная работа по мифологии – трехтомная монография А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869 гг.). Он собирал и систематизировал многие данные у славян о мифологии природных явлений. Кроме того, «столь же многочисленны обращения А. Н. Афанасьева к лексике неславянских языков – индоевропейских (древнеиндийского, иранских, армянского, греческого, албанского, латинского, кельтских, германских балтийских) и неиндоевропейских» [Журавлев 2005: 9]. В своей книге ученый не привлекает материалы китайского (азиатского)
фольклора, который, однако, также богат сходными мифологическими верованиями о природе и погодных явлениях. А. Н. Афанасьев положил начало сопоставительному изучению славянской и неславянской народной мифологии (cм.: [Афанасьев 1994]); позже произошло переосмысление его идей на базе новейших достижений ученых в области сопоставительного языкознания, фольклора и этнографии.
Теоретические принципы анализа в предлагаемой статье базируются на постулатах московской этнолингвистической школы. Этнолингвистика направлена на реконструкцию народной духовной культуры, при этом используются многие лингвистические понятия и подходы. Язык для выражения особенностей проявления стихии предстает как знак, отражающий культурный смысл природных явлений у разных народов. «Явление синонимии соотносится с явлением изофункциональности (соответственно способности разных языков выступать в одной и той же ритуальной, магической функции и в одинаковых контекстах)» [Толстая 2010: 15–16].
В ХХ в. в работах московской этнолингвистической школы метеорологическая тема предстает важной частью славянской мифологии ([см.: [Толстая 2004: 248–252]). Н. И. Толстой и С. М. Толстая изучали обряды вызывания дождя и другие магические ритуалы, опираясь на материалы, собранные в экспедициях на территории Полесья и Балкан (cм.: [Толстой 2003])1. Согласно исследованиям ученых, обряд вызывания дождя объясняется спецификой «мифологического представления о природе дождя и засухи» [Толстой, Толстая 1978: 377]. Исследования мифологических образов непогоды и различных аспектов народной метеорологии можно найти в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (в частности, в содержании словарных статей Засуха, Дождь, Град, Гром, Молния ) (см.: [Толстой 1995: 535–537, 558–560]; [Толстая 1999: 105–111, 275–276]; [Белова 2004: 280–282]).
Исследования А. А. Плотниковой направлены на изучение понятий, связанных с мифологией и отражающих народную культуру в балканском географическом ареале. В ряде статей ученого представлен анализ воздушных стихий, атмосферных и небесных явлений с точки зрения мифологии балканских славян. «Соответственно сербское культурно-лингвистическое пространство попадает в этот своего рода “слоеный пирог”, имея крепкие связи со всеми прилегающими народными традициями – болгарской, черногорской, боснийской, герцеговинской и т. д.» [Плотникова 2020: 16].
Наша статья направлена на изучение изоморфности и типологических сходств и различий в китайской культуре провинции Шаньдун и южнославянской традиции (на примере сербского материала).
В народной мифологии и Китая, и Сербии плохая погода чаще всего считается следствием действий типологически схожих мифологических персонажей. Например, когда в течение года случаются засухи, жители в Шаньдуне полагают, что «больше пяти драконов контролируют воду». Другими словами, когда несколько драконов совместно управляют погодой, они перекладывают ответственность друг на друга, что и приводит к засухе. Непогода (засуха, град, гром, молния) в Сербии также часто ассоциируется со змеями-драконами ала или ламия . В восточной и западной Сербии известен сюжет о борьбе защитника земельных угодий с демоном непогоды, которая, в свою очередь, считалась внешним проявлением и результатом противостояния воздушных демонов (cм.: [Плотникова 1998: 158– 169]). Мифологические сюжеты, связанные с непогодой, в изучаемых регионах помимо сходств имеют и некоторые различия. Психология народов отражает национальные особенности видения мира подобно тому, как психология личности изучает не только общечеловеческие законы душевной жизни, но и их разнообразие [Потебня 1892: 48].
-
I. Засуха
Засуха в народной мифологии провинции Шаньдун считается следствием действия ханьба ( 旱 魃 , ‘демон засухи’), при этом хань 旱 означает засуху, а ба 魃 включает комплексное значение ‘демон засухи’, поэтому персонаж может называться и кратко: ба . Считается, что для того чтобы остановить засуху, необходимо этого демона поймать и уничтожить. В результате существует много ритуалов, направленных на борьбу с демоном ханьба .
Происхождение женского демона ханьба зафиксировано в древнейшем сборнике поэзии «Шицзин» (примерно в середине 6 в. до н. э.): «Засуха разрушительна, травы на горе сухие, вода в реке высыхает. Ханьба причиняет вред, человек переживает, как на пытке огнём» [Чэнь Цзе 2002: 449] (перевод наш. – Л. Х.). Ее также называют нюйба (букв. ‘женский демон засухи’). Легенда гласит, что изначально она была помощницей в борьбе с врагом – так записано в древней книге «Шан Хай Ицзин». В то время Император Хуанди сражался с противником Чию. Чию пригласил мастера, который устроил бурю, а Хуанди пригласил женщину ба, чтобы остановить ветер и дождь. В конце концов, Ху-анди победил Чию и убил его. С тех пор ба жила на земле. Ее основная характеристика: там, где она живет, нет дождя [Ван Сюэдянь 2007: 249]. Считается, что в ханьба может превратиться покойник. Если умершие еще не захоронены или были похоронены неправильно, то их трупы могут превращаться в ханьба, т. е. в ходячего покойника.
На разных территориях провинции Шаньдун существует много версий легенды о демоне ханьба. В центральных районах ханьба осознается как чудовище. Она невысокого роста, нагая, быстро летит. В любом месте, которое она посетит, наступит продолжительная засуха. Но когда ханьба поймают и убьют, засуха будет устранена. В древние времена ханьба представала в образе чудовища на одной ноге со спутанными волосами. Существовало поверье, что если поймать ханьба и сжечь, то засуха быстро пройдет [Юань Мэй, Лу Хаймин 2012: 215]. Во время ритуальной церемонии «замаливания дождя» нечистые трупы нужно найти и выкопать, а затем сжечь. Этот ритуал называется « Шао ханьба » (‘сжечь ханьба ’). Такое суеверие особенно было популярно в юго-восточной части провинции Шаньдун. Во время ритуала «сжечь ханьба » участники выкрикивают заклинание: «Сожги ханьба ! Сожги ханьба ! Мои полевые культуры будут расти, и деревья на моей горе вырастут в ряд! Я хочу получить хороший урожай! Я хочу, чтобы у скота было много приплода! Я хочу, чтобы пришли тучи, пролился дождь, и наступила хорошая погода!» [Дай Юнся 2019: S11] (перевод наш. – Л. Х. ).
Засуха часто описана как демон, рожденный обычной женщиной. Согласно фольклорным данным, некоторые женщины могут порождать таких демонов. Если сразу после рождения их не поймать, то они могут улететь и вызвать засуху. Поэтому, прежде всего, чтобы устранить засуху, должны быть сурово наказаны женщины, родившие демонов. На центральных равнинах провинции Шаньдун была засуха, и ходили слухи о том, что одна женщина родила ханьба , поэтому все обвинили эту женщину, после чего толпа пришла обливать ее водой [там же].
В юго-западной провинции Шаньдун люди верят в мифическую птицу шанъян. Ее другое название – дуцзуняо, букв. ‘одноногая птица’. Считается, что шанъян может приносить дождь. В уезде Цзюаньчэнсян в округе Хэцзэ во время засухи люди наряжаются птицей шанъян: надевают на голову венок из ивовых прутьев, в руках держат две длинные тонкие доски (имитирую- щие рот птицы), стоят на одной ноге, подпрыгивая, – так они изображают танцующую птицу шанъян и призывают дождь [Чу Хун 2019: 25]. По легенде, одноногие птицы шанъян жили на восточной границе Китая. У них красные клювы и яркие длинные перья, звуки их голоса похожи на человеческие крики. Они появляются только перед дождями [Шэнь Ин, Чжан Чунгэнь 1998: 51].
В славянском мире виновником засухи могли признать и умершего не своей смертью. Засуха нередко объясняется наказанием за грехи висельника, поэтому «сербки разрезали веревку на мелкие куски и бросали их в воду, чтобы прекратилась засуха» [Толстой 1995: 378]. Причиной засухи может считаться осквернение земли, например, захоронение самоубийцы, утопленника и т. п. Сербы Кордуна считали, что засуха могла быть спровоцирована захоронением покойника, на теле которого остались не развязанными пояс, шнурки на рукавах и штанах, или захоронением необмы-того покойника [Толстая 1999: 275].
Случалось, что сербы снимали крест с безымянной могилы, устанавливали его в реке или ручье так, чтобы он простоял до тех пор, пока его не снесет водой. При закреплении креста трижды произносили: «Крест в воду, а дождь на поле! С неведомой могилы крест, с неведомой горы дождь!» (восточная Сербия, Болевац) [там же: 109]. Сербы Косова намеренно хранили воду после обмывания покойника и при засухе вливали ее в воды реки Ибар, чтобы призвать дождь. Кроме того, могла помочь и марля, которую использовали для подвязывания челюсти покойника: в засуху ее относили в поле, там сжигали и говорили: «Нам, Господи, пошли дождик!» [там же].
В восточной Сербии причиной засухи могли считать змея, предводителя туч, опустившегося на округу, – засуха не прекращалась до тех пор, пока он не улетит. Для вызывания дождя совершались специальные ритуалы «изгнания змея» [там же: 276]. В мифологическом нарративе рассказывалось о том, как демон принял облик летающего змея, как его «раскаленное, огненное тело, воцарившись в селе у своей возлюбленной, препятствует появлению дождя» [Плотникова 2000: 253]. Есть сходные свидетельства о том, что « змаj посещает красивых женщин, а в любовной страсти может забыть о своей роли “подавателя дождя”» ([Плотникова 1998: 160; Зече-вић 1993: 259]). Когда долго не было дождя, жители считали, что надо изгнать змея из села. Ночью мужчины собирались и ходили по селу, кричали, шумели, преследовали змея. Говорят, что только после этого начинался дождь [Плотникова 2000: 253].
-
II. Град
Град в провинции Шаньдун приносит дух града. Он называется ли-лаое (‘господин Ли ’) или ли-ее (‘дед Ли ’), где Ли – его фамилия. Он правит градоносной тучей и воздействует на погоду [Чжоу Лихуа 2018: 98].
Существует множество версий о происхождении названия духа града. Жители в районе Аньцю и Цзаочжуан провинции Шаньдун верят, что он был национальным героем по имени Ли-Цзочэ. Он помог генералу Хань-Синь победить врага [там же: 97].
Другое поверье гласит, что «дедушка града» родился в деревне Байцюань, люди знают только его фамилию Ли. Однажды внезапно хлынула родниковая вода, затопив почти всю деревню. Чтобы избежать наводнения, Ли заслонил родник своим телом, но сам при этом умер. В память о нем люди называли его « Ли Цзочи » (букв. ‘ Ли сидит в пруду’). Со временем, из-за особенностей местного акцента, « цзочи » изменили на « цзочэ » [Ду Голян 2011]. В настоящее время « цзочэ » стал просто именем духа града.
В районе Цзяочжоу люди в праздник Цинмин (4 апреля) приглашают «деда града» в гости, чтобы он вызвал хорошую погоду. В этот день людям запрещают разводить огонь на кухне, можно есть только «холодную пищу» (т. е. сырую и вчерашнюю), иначе дед Ли будет недоволен и вызовет град. Есть поговорка: «Если бы не ели холодную пищу, был бы везде град».
В некоторых районах провинции Шаньдун люди верят, что град чаще всего вызван туиба-лаоли (букв. ‘господин Ли без хвоста’). Его также называют лаоли (букв. ‘господин Ли’) или ли-лун (букв. ‘дракон Ли’) [Ли Жань 2016: 71]. Туиба-лаоли имеет образ получеловека-полудракона, так как он родился от дракона. История, связанная с происхождением туиба-лаоли, такова: дракон тайком посещал женщину, потом она родила змея, именно ли, который улетел сразу после своего рождения. Но каждое утро он возвращался пить молоко своей матери. Дракон-отец ненавидел своего сына, ножом отрезал ему хвост и прогнал его [Ван Цинань 2010: B02]. Туиба-лаоли в облике черного дракона стал защитником северо-востока Китая, там он выполняет функцию «носителя дождя». Говорят, что каждый год он возвращается в провинцию Шаньдун и навещает свою мать, но туиба-лаоли мстит отцу, поэтому приносит град, чтобы разрушать полевые угодья отца. До сих пор в провинции Шаньдун существует поверье: когда падает град, люди должны бросить нож в воздух, чтобы таким образом напугать туиба-лаоли и быстро остановить град. Другой вариант сюжета гласит о том, что он приносит с собой град не специально, а потому, что на севере Китая очень холодно.
Хотя туиба-лаоли приносит град, люди считают его добрым змеем-драконом. На востоке провинции Шаньдун жители поклоняются ему первого мая: бросают еду в реку, развешивают листья полыни, проводят в честь туиба-лаоли праздничные мероприятия. На западе провинции Шаньдун считают, что село Ванхайцзы – родина туиба-лаоли , поэтому там построили храм «матери дракона» и молят ее послать дождь, когда случается засуха.
В Сербии в большинстве случаев змеев-драконов (х)ала представляют злыми, они относятся к сверхъестественным существам. Так, например, у жителей Хомолья сохранилось поверье, что, «когда алы на небе дерутся друг с другом, они стреляют градинами, которые падают на землю, и тогда град может уничтожить урожай» [Толстой 1995: 535].
Жители юго-восточной Сербии «в праздник Св. Симеона (11.09) приносят в жертву курицу, чтобы уберечь село от “ламни”, которая водит градовые тучи» [Плотникова 1997: 109]. Люди предпринимали различные магические действия, чтобы устранить или успокоить демонов, отвечающих за градовые тучи. В «Сербском мифологическом словаре» (1970) зафиксирован распространенный обычай: «делать кресты из прутьев орешника (серб. крст од леда , букв. ‘крест против града’) накануне дня Святого Георгия и ставить их на дома и хозяйственные постройки во дворе, в садах и на полях, в загонах для скота, и все это для того, чтобы град не побил посевы. Для защиты от града выносили во двор яйца, хлеб, а также и другие блюда в качестве жертвенного подношения демонам. Кроме того, ходили по деревне с жертвоприношениями животных (ягнят, кур) и отмечали определенные дни и праздники. От града защищались и огнем, выносили и клали перед домом некоторые предметы домашней утвари2, когда надвигались градовые тучи, часто и острые металлические инструменты (топор, косу). Таким образом пугали демона-предводителя туч, чтобы тот свернул в сторону и унес град подальше» [Кулишић, Петровић, Пан-телић 1970: 104] (перевод наш. – Л. Х. ).
В Сербии известны персонажи под именем змаj, змеj, змаjевит човек, здува, здухач, которые рождаются от обычной женщины, часто – в «рубашке». Когда они спят, душа покидает их тела, чтобы бороться с «алой» или другими демоническими воздушными существами, приносящими град, поскольку только «змей-человек» или зду-хач может побороть себе подобного, чтобы защищать угодья от града [Плотникова 2004: 224].
В Сербии бытует и другой тип персонажа, управляющего градоносными тучами, но не насылающего град. В западной Сербии (район Шабаца и Поцерина) градобранитељ – человек со сверхъестественными способностями, умеющий отгонять от села градоносную тучу. Вjет-ровњак (Кремна, район Ужице) – человек, управляющий тучами. Vjetrogonja (район Смедерев-ской Паланки, Мионицы и Чачака) – человек или животное, которое может летать в облаках, защищая свое село от града [там же: 662].
Еще один тип сербского персонажа-защитника села от града – уж: «по всей восточной Сербии (Хомолье, Болевац, Алексинац, Нищ, Пирот) распространены поверья об уже, живущем в винограднике и оберегающем его от града». Такой уж называется «смук», его нельзя убивать, потому что он защищает урожай от града; наоборот, его следует поить молоком, «поскольку он борется против “алы”, “аждаи” и других предводителей градоносных туч» [Плотникова 1998: 162; Борђевић 1958: 100–101].
Сербы считали, что причиной градобития может быть работа в «градовые» праздники или погребение на кладбище покойника, умершего не своей смертью, – таких, как правило, закапывали на месте их гибели [Толстой 1995: 535].
Град часто связан с неправедным покойником. «У сербов в Леваче и Темниче запрещалось проносить через поле висельников или утопленника, “чтобы поле не побил град”. С этой же целью в восточной Сербии перед опусканием гроба в могилу развязывали все узлы, связывающие руки и ноги любого покойного (Болевац)» [там же: 537]. Душа умершего, идущая не к Богу, а остающаяся в облаках, сама обретает демонический характер. В Буджаке, области на крайнем востоке Сербии, люди просили отогнать градоносную тучу и самоубийц, называя их по имени христианского святого Германа: « Пренеси га Бермане » [Пантелић 1974: 224].
Ш. Вихрь
Вихрь в провинции Шаньдун связан с представлениями о злом духе, вредоносном демоне. Отождествление вихря с нечистой силой отражается в наименовании вихря. Есть три названия для вихря: гуй-сюаньфэн (букв. ‘черт-вихрь’); яо-фэн (букв. ‘демон-вихрь’), лун-цзюаньфэн (букв. ‘дракон-вихрь’).
В некоторых районах вихрь считается проявлением души умершего человека и называется гуй-сюаньфэн. Если умерший хочет вернуться домой, чтобы посетить родственников, он может стать вихрем [Лю Цзяньли, Лян Лися 2007: 42]. Иногда этот призрачный вихрь может делать некоторые намеки: например, если вихрь унес рис или одежду, то это означает, что умершие хотят есть или одеться. В большинстве случаев вихрь предвосхищает смерть кого-нибудь, поэтому люди боятся увидеть гуй-сюаньфэн. Во время Цинмин, традиционного народного Дня поминовения умерших в Китае, часто появляется гуй-сюаньфэн. Если человек подвергался несправедливости при жизни, то после смерти он превратится в гневного чёрта-вихря и будет мстить. Он будет сильно дуть во двор определенной семьи, чтобы вызвать завихрения и неуправляемый хаос. После этого кто-то из членов этой семьи либо заболеет, либо умрет.
Другой вихрь, вызванный демонами в мифологии, называется яо-фэн , [Люй Шусян, Дин Шэншу 2016: 1521] . Происхождение яо-фэн таково: животные, такие как змеи и лисы, прожившие долгое время и обладающие магическими способностями, могут управлять ветром и передвигаться с помощью вихря. Демон будет прятаться в середине вихря и двигаться вместе с ним. Люди верят, что нельзя преднамеренно преследовать этот вихрь или даже метать в вихрь предметы. Если люди это делали, то они злили демона, и это приводило их к несчастью.
Жители провинции Шаньдун верят, что большой вихрь лун-цзюаньфэн представляет собой воплощение дракона. Такой вихрь называется также лун-гуа (букв. ‘висячий дракон’) и считается телом дракона. Этот сюжет был зафиксирован во многих мифах: дракон вешает себя на облако, таким образом пьет воду из озера [Жэнь Мэн 2019: 05]. Считается, что вихрь вызывает змей-дракон цзяолун . Он переходит через реку, ползет к морю, затем поднимается на небо. Этот путь сопровождает вихрь.
В Сербии причиной возникновения вихря также считают нечистую силу. Души некрещеных детей или умерших не своей смертью «не принимает небо», они блуждают по миру, вызывая сильные ветры, вихри или бурю. В восточной Сербии на Тимоке сельские жители полагали, что души висельников или утопленников отправляются не к Богу, а управляют облаками, так как эти люди «сами себе учинили смерть» [Плотникова 2000: 249]. В экспедиционном материале А. А. Плотниковой из восточной Сербии (Заглавак и Горни Висок) вихрь – закрученный ветер, который следует задобрить. Если он кому-нибудь навредит, то нужно обратиться к духу умершего и побрызгать водой там, где ветер больше всего разгулялся, при этом говорят так: «Прошу тебя, мать, или брат, сестра, отпустите, отпустите. Если вы матери, будьте матерями, если сестры – сестрами, если братья – братьями» [Плотникова 2004: 113].
В мифологии южных славян балканские персонажи типа «вила» характеризуются тесной связью с ветром или вихрем: они могут в нем рождаться, жить, танцевать и крутиться [Плотникова 2004: 204]. Это последовательно фиксируется в юго-восточной Сербии и в соседних регионах Болгарии. Нередко названия юда, вила и самови-ла используются как выражения вихря или сильного ветра [там же: 204-205].
-
IV. Гром и молния
Гром и молния в Шаньдуне вызваны лэйгуном (громовник) и дяньму (мать молнии). Лэйгун «имеет облик человека, разъезжающего в облаках на колеснице и бьющего молотком по двум барабанам» [Рифтин 1988: 82]. Дяньму является помощницей лэйгуна и отвечает за молнию. Лэйгун и дяньму всегда появляются вместе. Говорят, что когда они ссорятся, в небе будут гром и молния.
В древности лэйгуна представляли как чудовище с человеческой головой и телом дракона; он может греметь, когда стучат по его животу. Кроме того, лэйгуна описывают с лицом обезьяны, с узким ртом; такие высказывания постепенно становятся стереотипными. Этот образ соотносится с наименованием « лэй чжэньцзы » («удар грома») или « лэйгун цзуй » ( лэйгун с узким ртом). В мифологии есть много историй о лэй-гуне , который держал в левой руке большой гвоздь, а в правой – большой топор. Удар топором по гвоздю может вызвать молнию и гром [Инь Дэнго 2010: 116]
Согласно традиционным представлениям провинции Шаньдун, лэйгун – герой, который сражается с демоном и наказывает его или людей за грехи. Если люди совершают плохие поступки или нарушают клятвы, лэйгун будет их убивать с помощью грома и молнии. До сих пор, когда местные жители клянутся, они часто говорят: «Если я нарушу клятву, я буду наказан лэйгу-ном ». Жители провинции Шаньдун отмечают день рождения лэйгун 24 июня по лунному календарю. Они желают искоренить зло, избежать бедствий и молиться о благословении.
В самом начале лэйгун является повелителем грома и молнии, его также называли «отцом молнии». Позже появился женский мифологический персонаж дяньму (помощник или женщина лэйгуна), специально отвечающий за молнию. Дяньму также называли шаньдянь-няннян (‘боги- ня молнии’). Образ дяньму был уже зафиксирован во времена династии Сун (960–1279 гг.): она летает в длинной юбке, держит обеими руками необыкновенную тарелку. Согласно некоторым локальным легендам она использует бронзовое зеркало как магическое средство [Юань Ли 2002: 164–165].
Существует общеславянское верование, что громовая стрела (гром, молния) – орудие, которое Бог или св. Илья бросают в дьявола [Плотникова 2000: 250]. Аналогичные поверья встречаются и у южных славян. Например, в «Сербском словаре» Вук Караджич пишет: «Когда гремит гром, в народе говорят, что св. Илья, по велению божьему, поражает дьявола [откуда сербская поговорка] узврдао се као ђаво испред грома (засуетился, как дьявол перед громом)» [там же: 251; Караџић 1852: 163–164].
У сербов были поверья, связанные с громом. «Сербы Косова Поля хранили обгорелые головешки бадняка на полке у очага для защиты дома от грома и града» [Толстой 1995: 559]. «Сербы и мусульмане в Боснии не жгли черешневое дерево из опасения, что их поразит гром» [там же]. «В ю.-зап. Сербии (Сйеница) убитого громом хоронили на кладбище, но считали, что могила через несколько дней после похорон должна дать трещину, а ночью над ней должен появиться огонек» [там же: 560].
«В сербских песнях говорится о том, что молнию посылает на землю Мария Огненная (сестра Ильи Громовника)» [Белова 2004: 280]. «В день Марии Огненной (17/30 VII) запрещалось работать, чтобы избежать поражения молнией (ю.-слав.)» [там же]. «Во всех славянских традициях известны поверья о том, что в одну из летних ночей (у юж. славян – в канун Ильина дня, у западных – в канун Петрова дня или Купалы) молния <сжигает> орехи» [там же: 281–282].
Причиной грома или грозы в южносербских, восточносербских и западноболгарских областях зачастую считают действия змееподобных персонажей – «алы», «ламии», «змея». По сербским поверьям, на юге Косова змаj имеет облик женщины с крыльями, которая может летать, вызывать гром и «поедать» человека [Vukanović 1986: 445]. Здесь прослеживается связь с представлениями об але и других «прожорливых» женских демонах, вызывающих гром и грозы [Плотникова 2000: 251]. От названия (х)ала, ламja, aждaja, происходят дериваты, имеющие обозначения неблагоприятных погодных явлений: в западной Сербии ала «сильный ветер» (Рудно), аждаjа «град, буря» (Сьеницко-Пештерский край), в восточной Сербии але «ветер, вихрь» (Доня Каме- ница, р-н Княжеваца), але «облака, тучи» (Горни Висок), аламуња «сильный ветер» (Равна Гора, р-н Власотницев), в южной Сербии аламуња «вихрь, ураган», алина «сильный ветер, непогода», аламуња «гром» (Ябланица, р-н Пчини), в Косово – ала «солнце во время дождя» [Плотникова 2006: 7–8].
Заключение
Изложенный материал позволяет сделать некоторые выводы о проявлении «непогоды» в народной мифологии китайской провинции Шаньдун и Сербии. Можно суммировать отмеченные типологические сходства и различия в народных представлениях:
-
1. «Непогода» считается следствием действия мифологических персонажей: в провинции Шаньдун засуха – своего рода след демона ханьба ; град приносит с собой бесхвостый черный дракон туиба-лаоли ; яо-фэн (вихрь) вызывает демон, происходящий от животного; лун-цзюаньфэн (вихрь) является телом дракона, а гром и молнию производят лэйгун или дяньму . В Сербии засуха вызвана демоном в облике летающего змея (восточная Сербия); ала приносит градовые тучи; считается, что вихрь – это «танец» самовилы и т. д.
-
2. В образах мифологических персонажей, вызывающих непогоду, наблюдается в основном змееподобный вид сверхъестественного существа: в провинции Шаньдун туиба-лаоли имеет образ получеловека-полудракона; змея превращается в настоящего дракона, и этот процесс сопровождается вихрем; в древности лэй-гуна представляли как чудовище с человеческой головой и телом дракона. В Сербии змей-дракон (х)ала, аждая, ламя в облике змеи вызывает непогоду (природные катаклизмы).
-
3. Многие проявления непогоды происходят от «неправильной» смерти (от «заложного» покойника): демоном ханьба чаще всего является умерший не своей смертью, его душа превращается в гневного чёрта-вихря и мстит людям; в Сербии засуху может вызвать покойник, который остался в гробу связанным или необмытым; работа в «градовые» праздники или погребение на кладбище покойника, умершего не своей смертью; души некрещеных детей, самоубийц или утопленников вызывают сильные ветры, вихри, бурю.
-
4. Названия персонажей, связанных с непогодой, включают имена собственные в китайской народной мифологии, чего не наблюдается в сербской традиции. Так, в провинции Шаньдун конструкция ряда наименований происходит от
обозначений ипостаси демонического существа или этиологической легенды о нем: ханьба в древности – это женский дух с именем Ба ; туи-ба-лаоли ведет свое происхождение от сюжета «женщина, забеременевшая от дракона», вследствие чего получает фамилию Ли .
Примечания
-
1 Например, статьи «Вызывание дождя в Полесье», «Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах».
-
2 Предметы, связанные с очагом: кочергу для печи, лопатку для сбора пепла и под.
Список литературы Образы непогоды в народной мифологии Азии и Европы (на материале китайской и сербской традиций)
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. М.: Индрик, 1994. Т 1. 800 с.; Т. 2. 784 с.; Т. 3. 840 с.
- Белова О. В. Молния // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. C. 280–282.
- Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М.: Индрик, 2005. 1004 c.
- Плотникова А. А. LAMIA в балканских традициях этнографического настоящего // Балканские чтения 4: ELLAS Древняя, средняя, новая Греция. Тезисы и материалы. М., 1997. С. 108–110.
- Плотникова А. А. Фрагмент балканославянской народной демонологии: борьба воздушных демонов // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М.: Индрик. 1998. Т. 2. С. 158–169.
- Плотникова А. А. Мифология атмосферных и небесных явлении у балканских славян // Славянский и балканский фольклор: Народная демонология. М.: Индрик, 2000. С. 243–258.
- Плотникова А. А. Этнолингвистическая география Южной Славии. М.: Индрик, 2004. 768 c.
- Плотникова А. А. Семантические и культурные балканизмы в этнолингвистическом аспекте // Исследования по славянской диалектологии: Ареальные аспекты изучения славянской лексики. М., 2006. Вып. 12. С. 7–19.
- Плотникова А. А. Сербская народная мифология в ареальном аспекте // Славяноведение. 2020. № 6. C. 15–27.
- Потебня А. А. Мысль и язык. М.: Типография Адольфа Дарре, 1892. 228 c.
- Рифтин Б. Л. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. 2-е изд. / под ред. С. А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. 719 c.
- Толстая С. М. Дождь. Засуха. Метеорология народная // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 106–111; 275–276. 2004. Т. 3. С. 248–252.
- Толстая С. М. Семантические категории языка культуры: Очерки по славянской этнолингвистике. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2010. 368 c.
- Толстой Н. И. Висельник. Град. Гром // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1. С. 377–379; 535–537; 558–560.
- Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. 624 c.
- Толстой Н. И., Толстая С. М. К реконструкция древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект) // Славянское языкознание. М.: Наука, 1978. С. 364–385.
- Ђорђевић Т. Природа у веровању и предању нашега народа // Српски етнографски зборник. 1958. LXXI. Књ. 1. C. 3–319.
- Зечевић C. Нека Веровања из традициjе становништва приобалних насеља Доњег Дунава // Гласник етнографског музеjа у Београду. 1993. Књ. 57. С. 257–273.
- Караџић В. С. Српски рjечник. Београд. 1852. 862 с.
- Кулишић Ш., Петровић П.Ж., Пантелић Н. Српски митолошки речник. Београд: Нолит, 1970. 328 c.
- Пантелић Н. Етнолошка грађа из Буџака // Гласник етнографског музеjа у Београду. 1974. Књ. 37. С. 210–237.
- Vukanović T. Srbi na Kosovu. Vranje: Nova Jugoslavija, 1986. T. 2. 549 c.
- Ван Сюэдянь 2007 –王学典. 山海经. 哈尔滨: 哈尔滨出版社. 2007 年. 共266 页. [Ван Сюэдянь. Шань хай ицзин (книга гор и морей). Харбин: Хаэрбинь чубаньшэ, 2007. 266 с.].
- Ван Цинань 2010 – 王庆安. 秃尾巴老李在山东 // 齐鲁晚报, 2010 年 10 月21 日. [Ван Цинань. Туибалаоли цзай шаньдун. (Дракон Лаоли без хвоста в провинции Шаньдун) // Цзинань: вечерняя газета «Цилуваньбао». 2010. 21 октября].
- Дай Юнся 2019 – 戴永夏. 旱灾与“旱魃” // 齐 鲁晚报, 2019 年7 月8 日. [Дай Юнся. Ханьцзай юй ханьба. (Засуха и демон ханьба) // Вечерняя газета «Цилуваньбао». 2019. 8 июля].
- Инь Дэнго 2010 – 殷登国. 二月惊蛰谈雷神 – 雷公信仰与雷击的怪诞传说 // 紫禁城. 2010 年. № 3, 第116–119 页. [Инь Дэнго. Эрюе цзинчжэ тань лэйшэнь – лэйгун синьян юй лэйцзи дэ гуайдань чуаньшо (Вера в Лейгун и странная легенда о ударе молнии в день Цзинчжэ февраля) // Ли Жань 2016 – 李然. 山东秃尾巴老 李的传说与信仰研究. 济南: 山东人民出版社. 2016 年. 共188 页. [Ли Жань. Шаньдун туибалаоли дэ чуаньшо юй синьян яньцзю. (Легенда и исследование веры о Туиба-лаоли в провинции Шаньдун). Цзинань: Шаньдун жэньминь чубаньшэ. 2016. 188 с.].
- Ду Голян 2011 – 都国良. 李左车的传说. 访问 时间: 2021 年03 月25 日. [Ду Голян. Лицзочэ дэчжуаньшо. (Легенда о Ли Цзочэ). URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e72f6950100togz.html (дата обращения: 25.03.2021)].
- Лю Цзяньли, Лян Лися 2007 – 刘建利, 梁黎霞. “鬼风”是怎么一回事? // 农家参谋. 2007 年. № 10, 第42–43 页. [Лю Цзяньли, Лян Лися. “Гуйфэн” ши цзэньмэ ихуйши? (Что такое «Призрачный ветер»?) // Нунцзя цаньмоу (журнал: Руководство по сельскому хозяйству). 2007. № 10. С. 42–43].
- Люй Шусян, Дин Шэншу 2016 – 吕叔湘, 丁 声树. 现代汉语词典. 北京: 商务印书馆. 第七版. 2016 年. 共1800 页. [Люй Шусян, Дин Шэншу. Сяньдай ханьюй цыдянь (Современный словарь китайского языка). Пекин: Шануиньшугуань. 7-е изд. 2016. 1800 с.].
- Жэнь Мэн 2019 – 任蒙. 再谈龙文化的起源 // 检察日报, 2019 年06 月28 日. [Жэнь Мэн. Цзайтань лунвэньхуа дэ циюань (Снова поговорим о происхождении культуры драконов) // Ежедневная газета «Цзяньчажибао». 2019. 28 июня].
- Чжоу Лихуа 2018 – 周丽华. 雹泉大庙 (膏润庙) 历史文化价值综述// 中国民族博览. 2018 年. № 9. 第96–98 页[Чжоу Лихуа. Баоцюань дамяо (Жуньгаомяо) лиши вэньхуа цзячжи цзуншу (Краткое изложение исторической и культурной ценности храма Баоцюань (храм Жуньгао) // Чжунго миньцзу болань (журнал: Китайская национальная выставка). 2018. № 9. С. 96–98].
- Чу Хун 2019 – 褚红. 山东菏泽鄄城 “商羊舞” 的重建研究. 硕士学位论文: 中央民族大学. 2019 年. [Чу Хун. Шаньдун хэцзэ цзюаньчэн шаняну дэ чунцзянь яньцзю (Реконструкция «Танца Шанъян» в Цзюаньчэне районы Хэцзэ провинции Шаньдун): магистерская диссертация. Центральный национальный университет, 2019].
- Чэнь Цзе 2002 – 陈节. 诗经. 广州: 花城出版社. 2002 年. 共544 页 [Чэнь Цзе. Ши цзин. (Книга песен). Гуанчжоу: Хуачэн чубаньшэ, 2002. 544 с.].
- Шэнь Инь, Чжан Чунгэн 1998 – 沈莹, 张崇根.临海水土志. 北京: 中央民族大学出版社. 1998 年. 共146 页 [Шэнь Инь, Чжан Чунгэн. Линьхай Шуйту Чжи (Записи приморских воды и земли). Пекин: Чжунян миньцзу дасюэ чубаньшэ, 1998. 146 c.].
- Юань Ли 2002 – 苑利. 华北地区龙王庙配祀神 祇考略 // 西北民族研究. 2002 年. № 2, 第158-168
- 页 [Юань Ли. Хуабэй дицюй лунванмяо пэйсы шэньди каолюэ (Изучение божеств, которым пклоняются в храме Лунванмяо в Северном Китае) // Сибэй миньцзу яньцзю (журнал: Северо-Западные этнические исследования). 2002. № 2. С. 158–168].
- Юань Мэй, Лу Хаймин 2012 – 袁枚, 陆海明. 子不语. 上海: 上海古籍出版社. 2012 年. 共698 页 [Юань Мэй, Лу Хаймин. Цзы Буюй (Странные вещи). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2012. 698 с.].