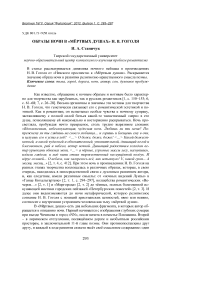Образы ночи в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя
Автор: Станичук Игорь Анатольевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается динамика ночного пейзажа в произведениях Н. В. Гоголя от «Невского проспекта» к «Мёртвым душам». Раскрывается значение образа ночи в развитии религиозно-нравственного смысла поэмы.
Тьма, город, дорога, ночь, автор, сон, духовное пробуждение
Короткий адрес: https://sciup.org/146120938
IDR: 146120938 | УДК: 801.73+929Гоголь
Текст научной статьи Образы ночи в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя
В «Мёртвых душах» есть два небольших фрагмента, в которых автор обращается к описанию ночи. Первый начинается с изображения глубоких сумерек при въезде Чичикова в город «NN», после визита в поместье Плюшкина. Второй – в лирическом отступлении, посвящённом дороге и необъятным российским просторам, в заключительной 11-й главе поэмы. Они противопоставлены друг другу, и каждый в ходе развития сюжета несёт своё смысловое содержание: один сопровождает возвращение Чичикова в пределы замкнутого городского пространства с простора сельских дорог, другой возникает при выезде из этой замкнутости на свободу бескрайнего, «могучего пространства» [2, т. 5, с. 221].
Образ «густых сумерек» [2, т. 5, с. 130] возвращения, как представляется, имеет явные параллели, художественные и смысловые, с «Невским проспектом». Предшествующее ночи время сумерек – некая пограничная зона, вводящая в пространство существования иных, мнимых реалий, в пространство погружённого в темноту города. В этот час всё изменяется, принимает свои сумеречные формы жизни. Окружающее словно оказывается во власти какого-то духа, искажающего его подлинную основу, превращающего настоящее в обман: «Были уже густые сумерки… Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пёстрый шлагбаум принял какой-то неопределённый цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе» [2, т. 5, с. 130]. В «Невском проспекте»: «Как только сумерки упадут на домы и улицы… тогда настает... таинственное время <...> Всё перед ним (Пискарёвым. - И. С. ) оки-нулось каким-то туманом. Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» [2, т. 3, с. 14]. Происходящее внутри сумеречного пространства по своей сути одинаково: Гоголь не делает разницы между столицей и уездным городом. Собственно, пространство сумерек, плавно переходящее в ночь – это тёмная завеса, активизирующая и одновременно скрывающая людские страсти и пороки, стимулирующая неблаговидные поступки, которые творятся под её покровом. Однако по отношению к Петербургу это время суток выступает более искривлённым, фантастическим и мистическим. Здесь всё старается утаить своё истинное лицо, красота оказывается порочной, инфернальные силы играют человеческими слабостями. Во фрагменте из «Мёртвых душ» пространство уездного города более реально и прозаично.
Примечательно, что у Н. В. Гоголя в «Невском проспекте» нет природного освещения, там окружающее освещается не светом месяца, а «заманчивым» [2, т. 3, с. 10] для людей светом масляного фонаря. Здесь и речи быть не может о загадочном мире «божественной ночи» «Вечеров…» [2, т. 1, с. 114]. Ночь не пробуждает в человеке ничего духовного, а напротив, лишь обостряет низменные чувства. В это время «чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчётное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны» [2, т. 3, с. 10]. Всё направлено единственно на то, «…чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щёки, наштукатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим» [2, т. 3, с. 10]. Уездный город в этом смысле не отличается от столицы: «Фонари ещё не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов» [2, т. 5, с. 130]. Но на улицах уже заметно много «особенногорода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекрёсткам» [2, т. 5, с. 130]. Тем не менее, среди этого тёмного пространства, выступающего у Н. В. Гоголя своего рода мета- форой бездуховности и обезличенной обыденности, обнаруживается и нечто не соответствующее этому пространству, живущее вопреки ему и мыслящее другими категориями, обладающее способностью облагораживать окружающее, творя в нём иную, романтическую, реальность. В городе «NN» это «замечтавшийся 20-летний юноша» [2, т. 5, с. 131], который «возвращаясь из театра, несёт в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями <… > он в небесах и к Шиллеру заехал в гости» [2, т. 5, с. 131] (конечно, не к Шиллеру – «жестяных дел мастеру» [2, т. 3, с. 30]). В «Невском проспекте» это романтический энтузиаст, художник Пискарёв. Их мечты составляют резкий контраст «тёмному» пространству города. Тьма не в силах деформировать образ мыслей этих людей и направить в общее русло животных инстинктов человеческой массы. Но для обоих внезапно наступает крах мечтаний и возврат к настоящему – «вновь пошла по-будничному щеголять перед ними жизнь» [2, т. 3, с. 13]. Романтический идеал оказывается беззащитным и хрупким перед лицом вульгарной «обнажённой» действительности. И 20-летний юноша из города «NN», наверное, мог бы воскликнуть, подобно Пискарёву: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты» [2, т. 3, с. 22]. В эту «отвратительную действительность» и возвращается Чичиков, спускаясь «как будто в яму, в ворота гостиницы» [2, т. 5, с. 131].
В отличие от ночного пейзажа города «NN», ночь в «Невском проспекте» дышит каким-то особым трагизмом, поражающим своей безысходностью. Это духовный тупик. Может быть, Гоголь сам ужаснулся того, что изобразил. Образы, живущие в пространстве тьмы, остаются в нём навсегда. Автор не может найти для них возможности выбраться из этого тупика. «Прекрасную грёзу» Пискарева (идеальный образ женщины, который так боготворил и сам Гоголь) не способна пробудить к жизни даже такая великая сила, как любовь и готовность художника пожертвовать всем ради этой любви. «Перуджинова Бианка» просто не смогла его понять [4, с. 127]. Думается, что и Гоголь оказывается в некоем тупике вместе со своими персонажами. Кризис романтических идеалов влечёт за собой кризис мировоззрения. В середине 1830-х гг. писатель ещё не мог отыскать пути и средства к преображению своих героев. Но он искал их. Этот процесс, по-видимому, является общим и закономерным для романтического мировосприятия вообще: у романтиков наступает переоценка собственного творчества и жажда услышать «музыку души, освобождённой от зла» [3, с. 248]. Осенью 1835 г. Гоголь приступает к работе над «Мёртвыми душами».
Фрагменту в последней главе поэмы Н. В. Гоголь придаёт новый смысловой вектор. Из сумеречного пространства «мёртвых душ» автору жизненно необходим выход. Неутешительная действительность – это факт, исторически сложившаяся форма, требующая своего качественного изменения. В это время Гоголь ещё не знает, как это сделать и что для этого нужно. Рецепт будет предложен им позднее в «Выбранных местах…», когда он чётко осознает для себя, что именно поможет «растопленному металлу отлиться в свою национальную форму» [2, т. 7, с. 391]. Сейчас же перспективы для него ещё неясны и интуитивны.
Как представляется, отъезд главного героя из города «N» в сопровождении автора ассоциируется с исканиями самого Н. В. Гоголя. Здесь особое значение приобретают тесно связанные между собой образы – дорога и ночь, в которых для писателя заключена сила оздоровления, преображения человека и жизни. В дороге, в движении он видит как бы антипод российскому застою. Вместе с тем, движение - это и пробуждение души, стремящейся вдаль и открывающей в себе неведомые доселе чувства. В романтических странствиях дорога, прежде всего, означала устремлённость к чему-то лучшему, томление по идеалу, который, в принципе, никогда недостижим. Это неутолимая жажда высшего, горнего, вечного. Для великого писателя это и обновляющая жизнь динамика, в которой рождается вдохновение, полнее раскрываются творческие силы и возможность углубиться в себя, подвигнуть саму душу движению и обновлению. Дорога воплощает надежду Гоголя, в то же время она и неоднократно испытанное им излечивающее средство: «Сколько раз, погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грёз, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!..» [2, т. 5, с. 222]. Автор отправляется в путь, в «могучее пространство, в котором не может не родиться беспредельная мысль, не может не быть богатыря...» [2, т. 5, с. 221], т.е. в самом себе заключающее возможность зарождения иной лучшей жизни. «Дивные впечатления» [2, т. 5, с. 222], полученный в дороге духовный опыт отражаются в движении сюжета поэмы - у автора совершенствуется духовное зрение, усиливается способность к прозрению, свидетельством чему служат лирические отступления, где подлинным действующим лицом выступает он сам.
С момента отправления в путь какая-то часть души автора словно начинала свою жизнь заново. Исчезала тревога, приходили покой и умиротворение. Наступающий сон отрешал от действительности. Оставались позади вёрсты дороги. Пробуждение приносило встречу с чем-то незнакомым, ещё не вошедшим в сферу жизненного опыта, а встреча с неизвестным всегда заключает в себе надежду, что оно окажется не таким, как покинутое пространство. Ночь, свет месяца, незнакомый город, в котором «нет ни души, всё спит» [2, т. 5, с. 222] и ощущается какая-то гармония покоя - это другой, отличный от предыдущего образ в сюжете поэмы. Здесь ночная тьма не несёт в себе обмана, она не наполнена фантасмагоричностью и пороком, как, например, в «Невском проспекте». Она прозрачна и беспорочна в своей первозданности: «…Ночь! Небесные силы! Какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далёкое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!» [2, т. 5, с. 222]. Можно предположить, что ночь выводит Гоголя на какой-то высший, восторженно-экстатический уровень восприятия. Уровень, в котором переживается единство с универсумом, с абсолютом. Ведь только восторг может объять необъятное, бесконечное, и это есть уже внера-циональная, духовная степень познания. Может быть, в этот момент в сознании писателя и закладывался фундамент будущих замыслов. В ночи он чувствовал веяние свежих, светлых предрассветных сил, словно приносящих вместе с собой разрешение его мучительным насущным проблемам, и вскоре снова погружался в сон, но уже в сон иной, «чудный, обнимающий» [2, т. 5, с. 222], заключающий в себе какую-то потенциальную перемену в умонастроении, ощущение преддверия другой жизни. Тем более что пробуждался он уже обновлённым, смотрящим на мир другими глазами: «…На вершине неба солнце
<…> внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви…» [2, т. 5, с. 222]. «Крест сельской церкви» возникает как некий ориентир, указывающий нахождение той истины, которую напряжённо искал Н. В. Гоголь. Таким образом, в общем движении этого фрагмента угадывается и символический смысл всей поэмы [5, с. 109–110]: от сна – к пробуждению, от духовной тьмы и омертвения – к озарению и воскресению.
Tver State University
Research and education center of the complex study the problems of romanticism