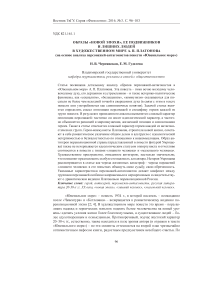Образы "новой эпохи", ее подвижников и лишних людей в художественном мире А. П. Платонова (на основе анализа персонажей-антагонистов повести "Ювенильное море")
Автор: Чернявская Надежда Владимировна, Гуделева Елена Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена детальному анализу образов персонажей-антагонистов в «Ювенильном море» А. П. Платонова. Эта повесть – гимн вечно молодому человеческому духу, его дерзаниям и устремлениям – и такие историко-политические феномены, как «социализм», «большевизм», «коммунизм» оказываются для писателя не более чем исходной точкой в свершениях духа (в связи с этим в тексте повести они употребляются как синонимичные понятия). Задачей статьи является определить смысл оппозиции персонажей и специфику героев каждой из групп повести. В результате проведенного анализа выявляется сложный характер оппозиции персонажей: частично он носит идеологический характер, а частично объясняется разницей в мироощущении, жизненной позиции и самосознании героев. Также в статье отмечается сложный характер героев каждой из антагонистических групп. Герои-коммунисты Платонова, строители новой жизни, сочетают в себе романтическое увлечение общим делом и альтруизм с идеологической нетерпимостью и безжалостностью по отношению к инакомыслящим. Образ антигероя пореволюционной страны (представленный в повести фигурой Умрищева) также не исчерпывается идеологическим статусом оппортуниста и отчетливо соотносится в повести с типами «лишнего человека» и «маленького человека». Художественное пространство, отведенное антигерою, настолько значительно, что позволяет предположить особую его важность для автора. История Умрищева рассматривается в статье как череда жизненных катастроф – череда поражений «лишнего человека» в его попытках обмануть свою судьбу, свою обреченность. Указанные характеристики персонажей-антагонистов делают конфликт между группами персонажей особенно напряженным и неразрешимым и свидетельствуют о драматическом видении Платоновым пореволюционной России.
Герой, антигерой, персонажи-антагонисты, русская литература 20-30-х гг. xx века, "новая эпоха", "лишний человек", "маленький человек"
Короткий адрес: https://sciup.org/146121925
IDR: 146121925 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Образы "новой эпохи", ее подвижников и лишних людей в художественном мире А. П. Платонова (на основе анализа персонажей-антагонистов повести "Ювенильное море")
«Ювенильное море» – повесть 1934 г., в которой писатель – неожиданно после «Чевенгура» и «Котлована» – возвращается к романтическому видению пореволюционной эпохи [2; 4]. В художественном мире повести это время – пора великих надежд и героических попыток поднять бытие человечества на новый уровень: сделать условия жизни более благополучными, а существование людей – более одухотворенным и осмысленным. Противоречивый, подчас жестокий характер 20–30-х гг., естественно, также находится в поле зрения автора (и отражен в тексте «Ювенильного моря») – но эти моменты оттесняются на второй план чрезвычайно оптимистичным пафосом книги, радостным предчувствием всеобщего счастья. По данной причине и политическая составляющая эпохи парадоксально не является определяющим началом в произведении о пореволюционной стране.
При подобном пафосе книги центральными ее персонажами закономерно оказываются революционеры и коммунисты, те, кто реформирует систему социальных и экономических отношений в стране, изобретает для этого технические составляющие новой жизни и воплощает их в реальность: командированный в «Родительские дворики» инженер и музыкант Николай Вермо, его соратники: секретарь гуртовой партячейки, а затем директор мясосовхоза Надежда Босталоева и несколько дополнительных персонажей – кузнец Кемаль, зоотехник Високовский, старая колхозница Мавра Федератовна.
Вместе с тем в систему персонажей повести включен образ человека, чуждого новому времени, – это оппортунист Адриан Умрищев. «Оппортунистом» называют его остальные персонажи повести, и, как и в случае с другими политическими категориями, обозначение это отчасти метафорично и указывает не столько на характер воззрений героя (они далеки от политики), сколько на более значительную его несхожесть с героями-деятелями. Целью настоящей статьи является определить смысл оппозиции Умрищева и остальных персонажей повести, а также специфику героев каждой из групп.
Отличительной особенностью всех героев-деятелей является абсолютное ментальное благополучие. Все они безоговорочно уверены в истинности своего дела, в его необходимости для человечества, в своем праве создавать новый мир. Отсюда следует, во-первых, их особенный, неисчерпаемый энтузиазм романтиков, не знающих уныния и усталости (этот мотив в повести гиперболизирован: увлеченные переустройством жизни, герои способны по нескольку дней обходиться без сна и еды – в связи с чем их можно назвать героями-подвижниками), а во-вторых – своеобразное агрессивное мессианство героев. Осознавая себя провозвестниками новой жизни в «стране трудного счастья», герои-коммунисты считают необходимым насильственное насаждение новых целей и идеалов, а также их неотступную охрану как от врагов, так и от неверящих. Так, например, Федератовна позиционирует себя именно как стража молодого государства уже на первых страницах книги. Агрессивным (Здесь и далее курсив наш. – Н. Ч., Е. Г.) мы назвали мессианство героев также и потому, что охрана молодой страны, ее достижений может осуществляться, с их точки зрения, только одним способом – уничтожением существующих и потенциальных «стервецов». О поголовном уничтожении части человечества неоднократно говорит каждый из ключевых героев-романтиков «Ювенильного моря»; что особенно важно, говорит как о само собой разумеющемся, как о прописной истине («Всех жалеть не нужно <…> многих нужно убить», – вскользь бросает одна из работниц «Родительских двориков» [3, с. 462]). Тем самым уничтожается всякая возможность рассматривать ситуацию как условную, а отдельные мотивы произведения как ан-тиутопические. По-видимому, с точки зрения Платонова, речь идет об уже сложившихся правилах нового общества, нового мира, – к ним можно относиться как угодно, но их приходится принимать как данность.
Итак, герои-подвижники непримиримы в неприятии всего, что может угрожать их прекрасному будущему. Интересно, что это неприятие носит очень странный, сложный характер. Будучи для них обыденностью, нормой жизни, оно вместе с тем может быть связано с неимоверным накалом страсти, ненавистью до остервенения, до самозабвения. Но и эта безмерная ненависть и страстность непременно сочетаются с безупречным расчетом: злоба не срывается на первом попавшемся, не сбрасывается «в пространство» – она бережется до встречи с врагом.
Еще один необычный момент: переполняющее героев чувство ненависти не разрушает их личности, не накладывает никакого отпечатка на их душу: «Бостало-ева ответила [на предложение Вермо сохранить Умрищева в качестве “памятника историческому идиотизму”], что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ, – теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше рассмотреть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое, и серые глаза были открыты как рассвет, как утреннее пространство…» [Там же, с. 479] – ситуация, совершенно невозможная для предшествующей литературы, одной из фундаментальных идей которой является невозможность для человеческой души вмещать бездну ненависти: в противном случае душа распадается, человек лишается человеческого облика. Герои Платонова, способные на убийство любого масштаба, остаются вполне человечными: это видно как из процитированного отрывка, так, в частности, и из сюжетной линии Федератовны. Героиня, не доверяющая почти никому, пребывающая в постоянной готовности к злобе, сохраняет способность к простой человеческой привязанности и горю (например, получив назначение в умрищевский колхоз, она искренне горюет о разлуке с любимыми ею Вермо и Босталоевой).
Независимость героев-коммунистов от связанного с ними ужаса, очевидно, является одной из загадок «Ювенильного моря» (как является, например, загадкой жанровая природа книги, сочетающей романтический гимн человеку с колоссальным реестром утопически-универсальных технических новинок; как остается загадкой история чувств ее персонажей: например, любовный сюжет главных героев, Вермо и Босталоевой, образован чередованием эпизодов их взаимной симпатии и странного отчуждения: «Вермо глядел Босталоевой вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из ее тела. “Зачем строят крематории? – с грустью удивлялся инженер. – Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования”» [Там же, с. 458]). Возможно, это – художественная деталь, говорящая о некоторых особенностях мировоззрения людей новой эпохи, а именно: о чрезвычайной нетерпимости ко всему, что не согласуется с их представлением о правильном образе жизни. Нетерпимости, при которой инакомыслящие кажутся ущербными, недостойными быть людьми, – а потому недостойными и того комплекса этических запретов, который превращает убийство – в преступление и в моральный груз – ненависть к себе подобным. В пользу этого предположения говорит тот, например, факт, что довольно часто романтические герои-подвижники отказывают неугодным им людям в человеческих чувствах. Еще один вариант объяснения многочисленных противоречий в характерах и поступках героев-коммунистов: взятые в совокупности, они являются своеобразным художественным знаком, говорящим о невозможности для писателя полностью понять и прокомментировать данный образ мыслей, возможно – о чуждости для него людей новой формации.
Не менее интересным и неоднозначным представляется нам и Умрищев.
Как было отмечено выше, первое, что обращает на себя внимание в этом персонаже, – его роль оппортуниста и единоличника, «помехи» нового мира. Вместе с тем, на наш взгляд, его роль в повести отнюдь не исчерпывается ролью классового врага. Он – единственный в повести герой, имеющий развернутую и сложную историю (и даже предысторию); более того, он – единственный динамичный персонаж, его жизненная позиция меняется несколько раз на протяжении текста. Художественное пространство, отведенное ему – герою второго плана, – настолько значительно, что позволяет предположить особую его важность для автора.
В целом биографию героя можно рассматривать как цепь жизненных катастроф, и в предыстории (Умрищев рассказывает ее Вермо, только что прибывшему в «Родительские дворики») говорится о первом звене этой цепи. Адриан Умрищев некоторое время служил «по разным постам Союза Советов»; возвратившись из очередной командировки, он обнаружил, что изменилась вся структура, в которой он служил. Новые ответственные исполнители зачислили Умрищева в штат «невыясненных» (непонятных новому времени людей, чья личность и документы проверяются). Далее Умрищев рассказал о своей беде незнакомому начальнику – и получил направление в мясосовхоз «довыясниться на практической работе».
Предыстория интересна, во-первых, тем, что в ней задан характер судьбы героя, смысл влияния на нее нового времени: прогресс на своем пути неизбежно разрушает отдельные случайные судьбы; и Умрищев (потерявший привычный ему мир, утративший даже самого себя в глазах окружающих) – из числа этих случайных жертв. Во-вторых, здесь определяется и характер его поведения в этой и похожих ситуациях: по-своему героические попытки вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью, уберечь ее от произвола истории (забегая вперед, отметим, что в предыстории говорится о единственном случае, когда усилия героя оказываются для него спасительными).
Далее во вступительной части повести, которая целиком посвящена знакомству Умрищева-директора и командированного инженера-музыканта (предыстория героя является своеобразной вставной новеллой внутри вступления), определяются еще некоторые аспекты истории Умрищева (обратим внимание на некоторую парадоксальность, заключенную в композиции повести: произведение, воспевающее строителей новой эпохи, их неукротимую энергию и энтузиазм, обладает довольно объемным и подробным вступлением (особенно по сравнению с динамичным сюжетом основного повествования), в центре которого находится безусловный антигерой новой жизни. Это обстоятельство, возможно, может быть подтверждением нашего предположения об особой значимости для Платонова фигуры Умрищева). Первое, что обращает на себя внимание, – странное впечатление, остающееся у Вермо от нового знакомства. Интуитивно (как некоторые другие близкие автору герои, инженер-музыкант обладает способностью ощущать состояние других животных, людей и мира в целом) он чувствует некоторую странность, инородность Умрищева: «…вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления» [Там же, с. 456]. Эта инородность воспринимается героем-подвижником как нечто негативное: «– Могу, наверно, – пообещал Вермо [выполнить просьбу Умрищева и “отобразить его в музыке”], чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека» [Там же, с. 453]. Причина этого безотчетного неприятия (Вермо, напомним, видит Умрищева первый раз в жизни), безусловно, кроется в кардинальном несовпадении личностей собеседников: первый из двух приведенных отрывков отчетливо противопоставляет героев. Настойчивое подчеркивание в этом эпизоде альтруизма, искренней веры инженера-музыканта в идеальное будущее человечества и его поэтической любви к этой будущей жизни, без сомнения, указывает также и на отсутствие названных начал в душе Умрищева.
Из ряда авторских комментариев, включенных в текст вступления, можно сделать вывод, что же занимает в душе героя, чуждого романтическому ожиданию будущего, центральное место. Мир Умрищева – это мир книг и тишины. Читающим в ночной тишине застает его Вермо в начале повести – и далее, во всех эпизодах, где герой предоставлен сам себе, он читает либо размышляет над книгой. Его выбор, на первый взгляд, кажется неожиданным: это книги, принадлежащие прошлому, например, Вермо видит героя со «старинной книгой в заржавленном железном переплете» (впоследствии она оказывается хроникой царствования Иоанна Грозного). В сфере интересов героя, таким образом, – знания об историческом прошлом, своеобразная поэзия приобщенности к интересным событиям, чужим жизням, ощущения особой – читательской – тишины и умиротворенности (ее нередко дают книги даже об очень страшных эпохах: большая временная дистанция создает иллюзию, что все возможные несчастья остались в прошлом и все страдания, связанные с ними, изжиты).
В этом и заключается несходство Умрищева и Вермо, Умрищева и прочих героев-подвижников, Умрищева и эпохи великого строительства в целом: она требует от человека не лиричности – а веры в общее дело, в собственные силы; не знания прошлых эпох – а сведений практического характера. И самое главное, чего требует эра строительства новой жизни и чего нет у Умрищева (отчасти в силу его возраста: так же как Федератовна, он подчеркнуто стар, отчасти в силу его мечтательности), – энтузиазма, готовности к немедленным Поступкам.
По этой причине Умрищев – «лишний человек» эпохи великих перемен (основанием соотнести рассматриваемого персонажа с известным социально-психологическим типом русской литературы середины XIX в. является характерная для всех «лишних людей» отчужденность от социально-функциональной структуры общества, их «душевная усталость и глубокий скептицизм» [1, с. 485] по отношению к исторической и социальной действительности). В данном случае «враг» – не активный и беспринципный противник, представляющий серьезную угрозу новому миру (дряхлый Умрищев даже при желании не смог бы заметно навредить). «Враг» – это всякий инакомыслящий, любой человек, кому по природе его нет места в той эпохе и в том мире, которые призван создать инженер-музыкант и его соратники.
В этом смысле «врагом» – чуждым, неуместным в новом мире, неприятным ему – осознает себя и сам герой. Особый трагизм ситуации сообщает тот факт, что никаких враждебных чувств: озлобленности, обиды за себя самого – в Умрищеве нет. «Быть может Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни – ведь все враги сейчас сознательны – и глубоко, хотя и чисто исторически уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова» [3, с. 456]. Помимо неожиданной и довольно рискованной параллели современных Платонову событий и эпохи татарского ига (по степени сложности для людей, надо думать), в этой фразе, во-первых, – безусловное приятие героем уже свершившихся перемен в его судьбе и в судьбе страны. Умрищев не рожден для этого времени, это не его стихия (поэтому он и уважает новое время «чисто исторически» – в отличие от героев-подвижников, которые влюблены в эпоху, словно в живое существо). Никакого личного, душевного участия происходящее в нем не вызывает – но, видимо, опыт чтения исторических сочинений привел Умрищева к мысли о неизбежности перемен – и он смиряется с неизбежным. Кроме того, обращают на себя внимание метафоры, передающие точку зрения героя на происходящее, и его эмоциональное состояние. Выражения «железный самотек истории» и «невзгода жизни», безусловно, говорят о непреодолимой тоске, о страхе человека перед чуждым ему началом, бесповоротно вторгшимся в его судьбу. Поэтому столь мрачно пророчество печальной судьбы этого человека в эпоху лихорадочных и великих свершений; а соотнесение персонажа с типом «лишнего человека» сообщает особую безысходность судьбе героя и дополнительное, драматическое, звучание на- званной литературной категории в данном произведении: в пореволюционный период «лишний» – значит обреченный.
В случае Умрищева это пророчество, зашифрованное уже в его фамилии, почти сбывается дважды: дважды Умрищев старается сжиться с обстоятельствами, обезопасить себя – и оба раза его усилия оканчиваются провалом; его история – череда жизненных катастроф – представляет собой череду поражений «лишнего человека» в его попытках обмануть свою судьбу, свою обреченность. Первой из таких попыток становится его существование под лозунгом «А ты не суйся!» (Умрищев в это время – директор «Родительских двориков»). Герой стремится стать как можно менее заметным, полагая, что таким образом контакты с чуждым ему новым миром сведутся к минимуму и, соответственно, разрушительная сила эпохи обойдет его стороной. Отсюда – особый стиль его директорствования: без каких бы то ни было нововведений. Общественная жизнь во владениях героя сведена к нулю, хозяйственные его распоряжения носят максимально нейтральный характер: «Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он опробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: “Печь более вкусный хлеб”. Все согласились» [Там же, с. 461]. Как было упомянуто выше, постоянное расхищение окрестными кулаками имущества «Родительских двориков», самоубийство Айны становятся причинами судебного разбирательства, в результате которого Умрищев смещен с поста директора.
Несостоятельность принципа «А ты не суйся!» в качестве метода самосохранения настолько выбивает героя из колеи, что на какое-то мгновение он становится почти контрреволюционером, решает «основать районное негласное оппортунистическое царство в форме Руси Иоанна Грозного» [Там же, с. 469] – непроизошедший бунт человека против эпохи. Впрочем, бунтарство очень скоро сменяется еще одной попыткой найти способ безопасного существования: после разоблачения Умрищев оказывается работником, а затем – председателем небольшого степного колхоза (как и в прошлый раз, его отправили «довыясниться на практической работе»). Здесь напуганный судебным процессом герой пытается сформировать для себя новый жизненный принцип: «Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа – это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот…» [Там же, с. 472]. Результатом этой весьма сложной методики стало то, что маленький человек Умрищев совершенно запутался в направлении «линии партии», в собственной природе и т. д. – и вместо колхоза создал вокруг себя структуру прямо противоположную: общину «зажиточных единоличников». Ситуация эта, как упоминалось выше, была выявлена и исправлена усилиями Федератовны: умрищевский колхоз был возвращен на правильный путь развития, сам же Умрищев окончательно сломлен – отсюда и чувство неуверенности, ставшее теперь доминантой его характера: «Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место…» [Там же, с. 495.]
На этих последних этапах сюжетной линии Умрищева у персонажа появляются новые черты мироощущения и поведения, ранее не отмеченные в его облике. Герой, все более осознавая грозный, бескомпромиссный характер наступающего времени, постепенно понимает и собственную чужеродность, несовпадение с эпохой. Это ощущение, по-видимому, рождает в нем страх и приводит к попыткам подстроиться под эпоху, стать как можно незаметнее для нее, а в финале – даже переделать свой характер в угоду «большой истории» – вплоть до отказа от собственной личности.
Буквально на глазах читателя герой приобретает все большее сходство с типом «маленького человека». Умрищева и персонажей этой группы роднит «приниженность», отмеченная Ю. В. Манном [1, с. 494], ощущение непрочности своего положения в социуме. Волевое начало и выраженная индивидуальность, отличающие героя на первых страницах повести, сменяются робостью, скованностью, по-види-мому – желанием обрести опору в лице более благополучного и принятого в новой жизни человека (по крайней мере, только так мы можем объяснить совершенно неожиданный брачный союз героя и Федератовны в финале произведения: Федератов-на воплощает собой энергичность и уверенность, которых не хватает герою, как бы восполняет собой его ущербность).
Перемены в образе Умрищева настолько разительны, что позволяют говорить о реализации пророчества, заложенного в его фамилии, – да, физически герой остается живым, но многое, составляющее его характер и сферу интересов, бесследно исчезло, умерло. Соотнесение с типом «маленького человека» в таком случае помогает понять степень перемен, произошедших с героем, а также экспансивный характер времени, которое способно превратить в «маленького человека» любого инакомыслящего.
Таким образом, анализ персонажей-антагонистов в системе образов «Ювенильного моря» показал, что и герои-подвижники, и персонаж-«враг» отличаются сложностью, известной противоречивостью, внутренним напряжением и драматизмом. Возможно, наиболее интересной и объясняющей указанные особенности персонажей повести является версия В. А. Чалмаева, который предлагает рассматривать «Ювенильное море» как свидетельство «немалых трудностей писателя в поиске положительного героя новой эпохи» [5, с. 59] (и положительного облика самой эпохи – добавим от себя).
ГУДЕЛЕВА Елена Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Владимирского государственного университета (600000, Владимир, ул. Горького, 87), e-mail: gudelena@ yandex.ru.
About the authors:
Список литературы Образы "новой эпохи", ее подвижников и лишних людей в художественном мире А. П. Платонова (на основе анализа персонажей-антагонистов повести "Ювенильное море")
- Манн Ю. В. «Лишний человек»; «Маленький человек»//Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2003. С. 485, 494.
- Пискунова С., Пискунов В. Сокровенный Платонов: К выходу в свет романа «Чевенгур», повестей «Котлован» и «Ювенильное море»//Литературное обозрение. 1989. № 1. С. 17-29.
- Платонов А. П. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. М.: Информпечать, 1998. 544 с.
- Чалмаев В. А. Андрей Платонов: (К сокровенному человеку). М.: Сов. писатель, 1989. 445 с.
- Чалмаев В. А. «Надежды на высшую жизнь» //Литературное обозрение. 1987. № 1. С. 56-59.