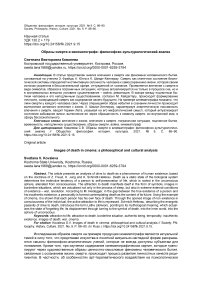Образы смерти в кинематографе: философско-культурологический анализ
Автор: Ковалева Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ влечения к смерти как феномена человеческого бытия, основанный на учениях З. Фрейда, К. Юнга и К. Шмидт-Хеллерау. Смерть как статичное состояние биологической системы определяет инстинктивную склонность человека к самосохранению жизни, которая своим истоком укоренена в бессознательной сфере, отчужденной от сознания. Проявляется влечение к смерти в виде символов, образов в пограничных ситуациях, которые актуализируется не только в процессе сна, но и в экстремальных внешних условиях существования - война, революция. В зазоре между подлинным бытием человека и его неподлинным существованием, согласно М. Хайдеггеру, происходит формирование личности, созерцающей смерть как содержание своего будущего. На примере кинематографа показано, что лики смерти у каждого человека свои. Через открывшийся образ небытия в сознании личности происходит вытеснение активного влечения к жизни. К. Шмидт-Хеллерау, характеризуя энергетическую пассивность влечения к смерти, вводит термин Лета, указывая на его мифологический смысл, который актуализирует состояние забывания жизни, вытеснение ее через обращенность к символу смерти, во внутренний мир, в сферу бессознательного.
Влечение к жизни, влечение к смерти, пограничная ситуация, подлинное бытие, временность, неподлинное существование, образы смерти, война, кинематограф
Короткий адрес: https://sciup.org/149138540
IDR: 149138540 | УДК: 130.2+179 | DOI: 10.24158/fik.2021.9.15
Текст научной статьи Образы смерти в кинематографе: философско-культурологический анализ
Костромской государственный университет, Кострома, Россия, ,
,
Исследование образов смерти на примере продукции кинематографа является актуальной темой в силу того, что средствами искусства в понятной визуально-наглядной форме раскрываются смыслы философско-аналитических учений, которые не всегда доступны субъектам для понимания. Кроме того, при изучении содержания кинематографических картин, которые транслируют через художественные образы ценностно-смысловые феномены человеческого бытия, связанные с осознанием жизни, смерти, происходит процесс развития личностных качеств реципиентов. В частности, об особенностях арт-терапевтического воздействия на психологическое состояние человека средствами кинематографа размышляют в своих трудах Е.И. Захарова, О.А. Карабанова; о формировании семантико-аксиологической сферы сознания через интерпретацию анимационных лент пишут О.А. Жукова, С.В. Ковалева; о влиянии кинематографа на ценностные ориентиры молодежи размышляют в своих исследованиях Д.В. Босов, М.Н. Руткевич, Т.С. Пет-ченко, Е.Л. Омельченко [1].
В истории человеческой культуры практически во все времена главными объектами произведений искусства выступали любовь и смерть как самые загадочные феномены человеческого бытия. Теоретическое осмысление этих концептов и выявление их практической значимости в реальной жизни принадлежит З. Фрейду, который, опираясь на введенное С. Шпильрейн понятие «влечение к смерти», разрабатывает теорию дуалистических стремлений человека, в частности, стремление к эросу (влечение к любви) и стремление к танатосу (влечение к смерти). По мнению ученого, эти влечения характеризуют Эго человека и определяют разнонаправленный характер его жизненной деятельности. Стремление к любви имеет творческий характер и основанное на энергии либидо, которое проявляется в созидательной активности субъекта, ориентированной на продолжение жизни, ее развитии и становлении. Отдавая свои силы в сексуальном влечении объекту любви, человек тем самым укореняет свое «Я» в другом, раздвигая границы собственного биологического существования, но при этом создавая психологическую устойчивость, противодействуя тем самым саморазрушению. Таким образом, З. Фрейд делает вывод, что «либидо наших сексуальных влечений совпадает с Эросом поэтов и философов, который охватывает все живущее» [2, с. 49].
Противоположное стремление, направленное на сохранение личностного «Я», на аккумулирование энергии внутри собственного существования, которое проявляется как «стремление к уменьшению, сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего напряжения», «является одним из наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании влечений к смерти» [3, с. 52]. По мнению ученого, два указанных влечения характеризуют проявление либи-дозной энергии Эго человека. Они ориентированы в противоположные стороны – от «Я» (как субстанциональному центру личности) и обратно к «Я», определяют энергетическую основу практической жизнедеятельности субъекта.
К. Юнг продолжил исследование З. Фрейда и так же, как и учитель, был убежден в том, что эти разнонаправленные стремления человека являются естественными проявлениями биологических процессов жизни, которые на психологическом уровне не совпадают с ритмами существования. На внутренний мир человека оказывает существенное влияние страх, который, воздействуя на сознание, проявляется двойственно: до высшей точки реализации своих способностей, когда происходит развитие и становление ценностно-профессиональных качеств, человек испытывает страх перед жизнью, боясь проявить себя. Поэтому биологический пик жизненных циклов не совпадает с вершиной личностных достижений. А после достижения вершины собственного становления, когда биологически происходит возвращение к естественному состоянию стабильности, покоя, человек подвержен страху смерти, что тормозит движение жизни к ее завершению [4].
Наличие страха во внутреннем мире нарушает гармонию между рациональной сферой сознания и чувственно-эмоциональной его стороной. В процессе цивилизационного развития человечества этот разрыв, увеличиваясь и качественно, и количественно, демонстрирует конфликт, который проявляется в обособлении от сознания бессознательной области, представленной архетипами коллективного типа. По мнению К. Юнга, все психические патологии, связанные с психозами и другими нервными расстройствами, есть результат внутреннего распада личности. Восстановление утраченной гармонии можно осуществить в том случае, если сигналы бессознательной сферы, чувствуемые в пограничных ситуациях жизни через мифологические символы и образы, рационально интерпретировать, придавая им смысл. По мнению К. Юнга, пограничная ситуация переживается человеком в состоянии сна, когда ослабевает контроль сознания за процессами, происходящими в бессознательной сфере, и она сигнализирует о проблемах внутреннего мира, которые в бодрственном существовании блокировались сознательной волей [5] .
Однако согласно экзистенциальной философии, в частности в творчестве М. Хайдеггера, пограничная ситуация понимается как характеристика временности человека, определяющей его пребывание в своей сущности, характеризующейся Da-sein. В этом модусе бытия время представляет собой единство прошлого, настоящего и будущего, которые взаимно детерминируют друг друга. По мнению философа, «“перед” и “вперед” показывают настоящее как такое, какое вообще впервые делает возможным для присутствия быть так, что речь для него идет о его способности быть. Основанное в настоящем бросание себя на “ради себя самого” есть сущностная черта экзистенциальности. Ее первичный смысл есть будущее» [5, с. 327]. Подлинное существование личности, протекающее во временности, проявляется в пограничной ситуации смерти как содержания будущего. В такой пограничной ситуации, проживаемой здесь и сейчас, открывается зазор между подлинным бытием Da-sein и неподлинным существованием, которое характеризуется суетой, погоней за материальными благами. В указанном зазоре, наполненном определенным состоянием сознания, в котором просвечивает будущее как конечность жизни, обретает смысл настоящее, детерминируемое открытием собственной смерти.
Актуализация пограничной ситуации как топоса внутреннего мира человека возможна, согласно Е.С. Сенявской, в наиболее напряженной форме во время войны. Конечно, основные личностные свойства человека, представленные феноменами бытия - подлинной свободой как ответственностью, совестью, честью - «очень сложно разделить по времени и условиям формирования, и речь, скорее, может идти о превращении качеств, единичных по своим проявлениям в условиях мирной жизни, в массовые, получающие самое широкое распространение в условиях войны» [6, с.11].
В качестве примера применения философско-аналитических теорий на практике можно привести продукцию кинематографа - фильм «Охотники за караванами», снятый в 2010 году российскими авторами-сценаристами В. Бочановым, И. Швецовым, режиссером С Чекаловым, по произведениям А. Проханова «Охотник за караванами» и «Мусульманская свадьба». Фильм посвящен событиям Афганской войны 1979–80 гг. За день до получения задания по разведыванию и захвату оружия «Стингер», которое получено моджахедами от американцев и которое способно уничтожать советские вертолеты, обеспечивавшие военное преимущество советских войск в воздухе, старшему лейтенанту Слободе (актер Н. Емшанов) снится сон. В нем он видит могилу у скалы, вокруг которой бегают душманы. Вспомним, что, согласно К. Юнгу, сны как проявление пограничной ситуации, в которой бессознательное в образах передает информацию сознанию, «содержат предсказательный или прогностический компонент... Такой сон часто приходит прямо с небес и остаётся лишь удивляться, что побудило его быть таким... Но это только наше сознание не знает, бессознательное же осведомлено, сделало выводы, каковые и выразило во сне. Фактически бессознательное способно исследовать ситуации и делать свои выводы ничем не хуже, чем сознание. Оно даже может использовать определённые факты и предсказать по ним возможные последствия именно потому, что мы их не осознаем» [7].
В случае этого героя фильма пограничная ситуация, связанная с переживаниями событий войны, проявилась во сне как предсказании собственной смерти. Еще не зная о задании, старший лейтенант чувствует страх, томление духа, собственную неприкаянность, нигде не может найти себе места. Узнав о задании (причем командир - майор Оковалков (актер А. Серебряков) -предупреждает, что задание несложное: только разведать путь каравана, переправляющего «Стингер»), Слобода перестает есть, объясняя это тем, что «душа не принимает» пищи. Вечером, перед утренним выходом, старший лейтенант просит командира не брать его на задание, честно признаваясь, что сон предсказал ему собственную смерть. Командир отказывает Слободе, поясняя, что даже если и в госпиталь его положить, то все солдаты разведроты почувствуют обреченность, смерть, поэтому он, будучи командиром, не может допустить такого небоевого состояния духа в своем подразделении накануне выполнения важного задания. И дополняет: «Это все, что я могу для тебя сделать», - таким образом давая понять, что, если сон - правда, надо принять смерть достойно, а не прятаться от нее.
Примечательно, что старший лейтенант Слобода геройски погибает на следующий день у скалы тогда, когда, поборов свой внутренний страх смерти, он защищает спину командира и закрывает своим телом гранату, брошенную моджахедом с тыла. У каждого солдата-разведчика, участвовавшего в этом задании, возникает свой образ смерти в момент актуализации пограничной ситуации как проявления состояния в бытии Da-sein. Грузин, рядовой Цхеладзе (актер З. Чантурия), всегда спорит с армянином, рядовым Акопяном (актер С. Дурян), и каждый стремится доказать красоту и неповторимость своей родной земли, выраженной в природе, в культуре, в традиционной кухне. Но перед смертью они впервые соглашаются друг с другом, признавая уникальность родного края оппонента, и объединенные любовью к Родине, к своему Закавказью принимают решение после войны побывать грузину в Армении и посмотреть Арарат, а армянину в Грузии, чтобы полюбоваться Казбеком. Видя смерть Цхеладзе, Акопян произносит слова: «Брат, а как же Арарат?» И с этими словами его сердце пробивает пуля душмана. Образ родной земли - вот что открылось в пограничной ситуации смерти этим двум воинам.
Рядовой Бухов, который попал в Афганистан после детского дома, всегда мечтал встретить свою мать, которую никогда не видел. Вырезав из журнала фотографию известной в прошлом актрисы, он всем ее представлял как свою маму. В каждой молодой девушке он старался разглядеть красивые черты «мамы», боясь пропустить, не заметить возможной любви. Отступая через населенный пункт после вынужденного, непредвиденного боя, Бухов (актер М. Тарабукин), предчувствуя смерть, завораживается молодой афганской девушкой, укрывшейся паранджой, торопится разглядеть в ней знакомый образ. Околдованный этим, так и не увиденным земным зрением образом солдат получает топором удар в спину от душмана.
Завороженность сознания образом смерти проявляется еще в одном эпизоде, который демонстрирует актуализацию пограничной ситуации между бытием и небытием. Капитан Разумовский (актер А. Саминин), заместитель командира майора Оковалкова, является человеком неординарным, знающим много, думающим, способным глубоко чувствовать и переживать. Из контекста фильма известно, что капитан хорошо знаком с культурой Востока, традициями, знает творчество арабских поэтов, философов, весьма эрудированный и эстетически развитый человек. Вспоминая героизм Слободы, он пытается решить для себя парадокс страха и грядущего события небытия, задаваясь вопросом: «Как человек, боящийся смерти, смог броситься и закрыть собой гранату? Не понимаю… Знал же про свою смерть через сон. Как так? Ничтожное становится совершенным…». И в этот момент Разумовский замечает статую Будды, находящуюся в пещере, через которую пришлось отступать после смерти Бухова. Для человека, знавшего хорошо историю и культуру Востока, статуя представляла собой уникальный арт-объект, мимо которого невозможно пройти. Завороженный образом красоты неповторимого произведения искусства капитан «попадает» в пограничную ситуацию, в которой через лик Будды он заглядывает в лицо собственной смерти. Рядом со статуей была поставлена растяжка, зацепившись за которую ногой, Разумовский привел в действие взрывной механизм и получил смертельное ранение. В этой ситуации «Ничтожным» для него становится собственная жизнь, угасающая с каждой пульсацией покидающей тело крови, и страх, связанный с ней, а «Совершенным» – жизнь оставшихся товарищей, ради спасения которых он взрывает себя гранатой вместе с окружившими его врагами. Таким образом, в предсмертный момент собственный жизни ему открывается смысл парадокса между страхом и событием небытия, который он не понимал, размышляя о подвиге Слободы.
На основе кинематографического материала хотелось бы несколько уточнить аналитическую позицию З. Фрейда и К. Юнга. Образ смерти, возникающий в пограничных ситуациях жизни, характеризует не влечение к смерти, которое, по Фрейду, есть «стремление к восстановлению прежнего состояния». Указанное влечение невозможно рассматривать и в качестве динамичного акта, определенного самосохранением или сексуальностью. Об этой особенности влечения к смерти пишет в своих трудах исследователь К. Шмидт-Хеллерау. Она указывает на интровертивный аспект влечения к смерти, который предполагает бездействие. Так, из кинофильма видно, что и Цхеладзе, и Акопян, и Бухов, и Разумовский завораживаются образом смерти, который у каждого свой, детерминированный тем, к чему было расположено сердце героя, в чем была ценность его любви. В частности, Шмидт-Хеллерау утверждает, что лик смерти исподволь, без воли человека вытесняет активное стремление к жизни, поддерживая баланс существования. Опираясь на понимание пассивного характера стремления к смерти, автор вводит понятие Лета, которым характеризует энергию влечения, указывает на мифологический смысл этого образа. В нем присутствует состояние забывания жизни, вытеснение ее через обращенность к символу смерти, во внутренний мир, в сферу бессознательного [8].
Список литературы Образы смерти в кинематографе: философско-культурологический анализ
- Захарова Е.И., Карабанова О.А. Кинотерапия: современный взгляд на возможности применения // Национальный психологический журнал. 2018. №2(30). С. 57-65
- Жукова Т.А., Ковалева С.В. Формирование личности средствами искусства: анимационная форма вербализации смысла // Национальное здоровье. 2018. № 2. С. 229-237
- Босов Д.В. Мейнстрим-кинематограф как фактор формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи: автореф. дис.. канд. социол. наук, СПб., 2017. 196 с.
- Руткевич, М.Н. Социология образования и молодежи. Избранное М., 2002. 541 с.
- Петченко, Т.С. Роль средств массовой информации в формировании ценностных ориентаций современной российской молодежи: автореф. дис.. канд. социол. наук. Ставрополь, 2007. 156 с.
- Омельченко, Е.Л. От субкультур - к солидарностям и назад к субкультурам? споры о терминах и этнография молодежной социальности // Этнографическое обозрение. 2014. № 1. С. 3-8.
- Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия; пер. с нем. М., 1992. С. 201-255.
- Юнг К.Г. Душа и смерть [Электронный ресурс] // Журнал литературный, политический, учёный "Отечественные записки". № 1(28). 2006. URL: https://strana-oz.ru/2006/1/dusha-i-smert (дата обращения: 04.08.2021).
- Хайдеггер М. Бытие и время. М., Ад Маргинем, 1997. 452 с.
- Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997. 230 с.
- Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991 [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 11.12.2011. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/4229/4232 (дата обращения: 04.08.2021).
- Шмидт-Хеллерау К. Влечение к жизни и влечение к смерти. Либидо и Лета. СПб., 2003. 298 с.