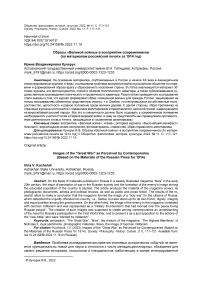Образы "великой войны" в восприятии современников (по материалам российской печати за 1914 год)
Автор: Кучерук И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2022 года.
Бесплатный доступ
На основании материалов, опубликованных в России в начале XX века в еженедельном иллюстрированном журнале «Нива», исследована проблема восприятия войны в российском обществе того времени и формирования образа врага у образованного населения страны. В статье анализируется материал обложек журнала, его фотодокументов, статей и обзоров политического характера, а также публиковавшиеся художественные произведения поэтического и прозаического характера. Результатом проведенного исследования стали выводы о том, что журнал формировал образ «священной войны» для граждан России, защищавшей не только несправедливо обиженную «родственную страну», т.е. Сербию, но и вступившуюся за собственные честь, достоинство, целостность и равное положение среди великих держав. С другой стороны, образ противника на страницах журнала соотносился с германским милитаризмом и представлялся «военной грозой, надвинувшейся на миролюбивый русский народ». Все это в совокупности должно было создавать у современников понимание необходимости участия России в Первой мировой войне, а саму ее представлять как справедливое противостояние деятельности «новых Аттил», находящихся в «ослеплении милитаризма».
Восприятие, "великая война", "нива", риторика журнала, "высочайший манифест" николая ii, верноподданические настроения, фотоматериалы, славянство, образ германского милитаризма
Короткий адрес: https://sciup.org/149141911
IDR: 149141911 | УДК: 94(100)“1914/19” | DOI: 10.24158/fik.2022.11.19
Текст научной статьи Образы "великой войны" в восприятии современников (по материалам российской печати за 1914 год)
,
дисциплины – исторической психологии. Восприятие Великой войны, как ее называли современники, стало предметом изучения многих ученых. В частности, в трудах современных исследователей отражено восприятие российским обществом германской военной элиты (Ланник, 2009), российским крестьянством (Крайкин, 2009; Александров, 2015; Самохин, 2001), казачеством (Го-довова, 2015), интеллигенцией (Тропов, 1999), российскими религиозными мыслителями (А.В. Милованов1), солдатами и другими непосредственными участниками противостояния – войны в целом, отражение мирового противостояния в военных дневниках его участников (Жердева и др., 2021; Холодов, 2014) и иные аспекты данной проблемы.
Под восприятием большинство авторов понимает процесс, посредством которого у индивида формируются образы окружающего мира, происходит отражение реальности в психике. Безусловно, образы Первой мировой войны формировались в российском обществе различными способами и с помощью различных средств, включая печатные СМИ. Одним из авторитетных из них был еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни «Нива» (редактор-издатель – Л.Ф. Маркс), анализ материалов которого представлен в настоящей статье.
Основная часть . Накануне Первой мировой войны ситуация в Европе ухудшалась, о чем в том числе свидетельствуют заголовки очерков и статей в российской периодической печати: «Тучи на Балканах», «Религиозные гонения в Австро-Венгрии», «Албанские разочарования». При этом опубликованные материалы подчеркивали единство членов Тройственного союза, что также находило отражение в заголовках газет и журналов – «Англо-русские торжества», «Франко-русские торжества»2.
Убийству эрцгерцога Франца Фердинанда в рубрике журнала «Нива» «Политическое обозрение» было уделено место на предпоследней и последней странице журнала, т.е. событие не рассматривалось как экстраординарное и тем более как повод для начала «Великой войны». Материал назывался «Сараевская драма», убийца был представлен как незрелая, но патриотически настроенная личность – «юный фанатик-гимназист из боснийских сербов». Вместе с тем подчеркивалось, что «покойный эрцгерцог пользовался репутацией непримиримого врага сербской народности…», который использовал свое влияние «во вред всему славянству и России». Образ убитого создавался описанием одиозной личности, обладавшей «необычайной активностью, выдающейся энергией и инициативой», которая «направляла весь ход австрийской политики, …а именно – на систематическое преследование славянства …, против ненавистной Сербии и грозной России». Далее приводились такие его характеристики, как склонность к «широким и смелым до безумия планам», противоречивость характера эрцгерцога – «беспокойный и предприимчивый дух с почти истерической нервностью и порывистой женственной нерасчетливостью», и в заключение резюмировалось: «Богато одаренный, типичный неврастеник в политике (инициатор Мазепинского движения)»3.
Риторика материалов журнала начала меняться с 30 номера, в котором был опубликован Высочайший манифест Николая II. В нем подчеркивалось, что, следуя историческим своим заветам, Россия, «единая по вере и крови со славянскими народами», испытывает к ним братские чувства, однако «дорожа кровью и достоянием свои подданных» долгое время надеялась на мирное разрешение ситуации. Но союзная Австрии Германия, «вопреки надеждам на вековое доброе соседство … внезапно объявила России войну». В этих условиях, как отмечалось в манифесте, речь уже шла не только о том, чтобы заступиться за «несправедливо обиженную родственную … страну», но и о том, чтобы «оградить честь достоинство, целостность России и положение ее среди великих держав»4.
После молебна в Зимнем дворце 20 июля 1914 года Николай II обратился к присутствующим с речью, в которой подчеркивалось, что «наша Великая матушка Русь встретила известие об объявлении войны со спокойствием и достоинством». Обращаясь к «единородной единодушной, крепкой, как стена гранит» России, Николай II благословил народ России «на ратный труд»5.
В опубликованном на страницах периодической печати Российской империи Именном императорском Указе Правительствующему Сенату образ противников соотносился с бронированным кулаком – «руки наших отныне кровных врагов постепенно складывались в бронированный кулак, создавший ужасы вооруженного мира». Отмечалось, что Россия «готова грудью встретить вызов», а ее союзники – «разделить с ней тернии и лавры на бранном поле»6.
Австро-Венгрия обозначалась как «первая зачинщица мировой смуты», которая наконец-то сбросила свою «личину», т.е. маску. В свою очередь Германия интерпретировалась как страна, находившаяся «в ослеплении милитаризма» после франко-прусской войны, которая всю «дальнейшую историю своей культуры писала острием штыка». А противостоящая им Россия позиционировалась как «единая многоплеменная разноязыкая» держава1.
В материалах российской периодической печати в начале войны подчеркивалось, что бранное поле начавшегося противостояния – это вся Европа, и проявлялось понимание того, что «предстоит битва народов ожесточеннее и страшнее 1812 года»2.
В политическом обозрении «На суд Божий» в журнале «Нива» нападение Австрию на Сербии сравнивалось с громовым ударом, который интерпретировался как «смертельный удар всему славянству», а нападение на Сербию – как наступление германизма на Россию: «… это война не между Сербией и Австрией, а между германизмом и славянством». Акцентировалось, что народ России находится перед дилеммой: отстоять с оружием свое право на существование или покорно сложить голову перед насилием и «обречь себя и своих потомков на позорную жизнь бесправных немецких рабов»3.
Декларировалось, что в этой «воистину священной войне» важно, чтобы «в порыве слились русское общество и государственная власть». Автор обозрения также выразил мысль об особой миссии российских воинов: «Ее герои будут биться и умирать на полях сражений с подвижничеством христианским мучеников и самоотверженных борцов за национальную идею вся сила и красота славянского духа». Подчеркивалось то, что у России в этой войне справедливые цели: «…глубоко миролюбивый и кроткий русский народ пойдет в смертный бой с пламенной верой, что Бог пошлет победу правому делу»4.
Изложенную императором позицию относительно справедливой роли в начавшейся войне поддержал в своем «Послании Правительствующий всероссийский Синод чадам православной российской церкви». Главный тезис документа заключался в том, что «… народ русский в течение своей многовековой истории неизменно стремился к мирному прохождению своего жизненного пути. Но вместе с тем народ русский всегда считал своей священной обязанностью защищать слабых и угнетаемых меньших братий родных по вере и племени…. Вера – оружие непобедимое»5.
С 26 июля 1914 г. в журналах (примером может служить журнал «Нива») появились новые рубрики: «Великая Европейская война», «Обзор первых недель войны» и «Единение царя с народом». 5 августа 1914 г. Николай II выступил перед представителями «дворянства города, земства и купечества» в Кремлевском дворце. В его речи использовался образ «военной грозы, надвинувшейся на миролюбивый русский народ», который в эти дни должен, «откинув распри», встать дружно «на защиту родной земли славянства». Говоря о российском войске и союзнических силах, император использовал выражения – «доблестные войска» и «мужественные иноземные союзники»6.
Менялся и иллюстративный ряд журналов. Так, снимки, сделанные известными фотографами того времени А. Савельевым, С. Смирновым, К. Фишером, К. Буллой, наглядно демонстрировали идею единения государства в лице представителей императорской фамилии и народа в самом широком смысле этого слова. Приведем примеры подписей под фотоматериалами: «Молебствие о даровании победы русскому оружию в новосооруженной мусульманской мечети в Петербурге на Кронверкском проспекте» – под фото Я. Штейнберга7, «Манифестация чехов и мо-равов в Москве на Тверской улице» – под фото А. Савельева8, «Москва встречает царя. У Кремля на Красной площади» – под фото А. Савельева9.
Другой темой публикуемых фотографий были сцены мобилизации и народных шествий как проявлений верноподданнических настроений, например, «Мобилизация в Петербурге. На Царицыном лугу. Прием лошадей в воинской части» (фото К. Буллы), «Народные моления и манифестации в Москве у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади» (фото А. Савельева). Значительное место на печатных страницах занимали коллективные фотографии добровольно создаваемых общин, например, «Отряд сестер милосердия Александровской общины Красного креста»10.
Силами периодической печати России формировались образы военачальников, представителей дипломатического корпуса как российской стороны, так и государств-союзников. Например, фото Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича, английского министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея1, сербского генерала Божидара Янковича, президента сербского «Союза народной обороны», французского посланника при русском дворе Мориса Палеолога и, конечно, «августейших братьев по оружию» – императора Николая II, короля Великобритании и Ирландии Георга V и короля бельгийского Альберта I были размещены на обложке 34 номера «Нивы». В этом же журнале были опубликованы фотографии членов российской императорской фамилии, находившихся в рядах армии на театре военных действий2.
Война, в которой в самом ее начале приняли участие восемь государств, первично трактовалась на страницах журнала как «Европейская война», поскольку современники полагали, что она «… вряд ли может быть продолжительной в силу тех военных потрясений народного организма, которая вызовет эта титаническая борьба вооруженных наций»3.
Надежда на быстрое завершение войны отражалась и в публикуемых на страницах журнала литературных произведениях. Примером может служить стихотворение Натальи Грушко, которая писала:
«И слышу я: шумят знамена,
Бегут тевтонские полки…»4.
В очерке Н. Инсарова с красноречивым названием «Кто виноват?» не только подчеркивалось, что «начавшаяся война грозит Австрии и Германии чрезвычайными последствиями», но и создавался неоднозначный образ германского общества. Отмечая то, что в этой войне немцы «как один человек станут в ряды своей армии и исполнят свой долг до конца», автор пишет и о другой – сознательной и благоразумной Германии, умеющей понять и оценить положение, голоса которой, однако никто не слышит. Рефреном в очерке звучит фраза «Германия обезумела»5.
Проводились в публикациях и исторические параллели, которые должны были ориентировать читающую публику на победоносный для России и ее союзников исход военных действий. В частности, подчеркивалось, что солнечное затмение 8 августа 1914 г. является важным «небесным знамением», которое в свое время обеспечило победу русского оружия в Куликовской битве и в разгар «Великой Северной войны»6. Подобный образ поддерживался и опубликованными на страницах журнала художественными текстами: «…мы грудью голою встречали в броню закованных врагов», «плечом к плечу сомкнулись в ряд и доблесть наша – точно та же, что и сто лет тому назад!» (из «Песен войны» Н. Агнивцева)7. Отмечалось, что Вильгельм II планировал стать «современным Карлом Великим» и назывался «Цезарем из Берлина», «Атиллой Запада с кровавыми целями»8.
На страницах российских газет и журналов этого периода активно печатались рассказы и очерки, рассказывавшие о зверствах и жестокости немцев, в том числе и в предшествующих войнах. Они базировались на воспоминаниях очевидцев или создавались на основе художественных произведений. Примером может служить серия очерков «Варвары» Б. Никонова в журнале «Нива»9.
Выводы . В целом, можно отметить, что в течение первых месяцев «Великой войны» общий тон российских газетных и журнальных материалов трансформировался и поляризовался: его вектор перемещался от ура-патриотических воззваний до критического восприятия военных событий (Буранок, 2014: 31). Современники, оценивая события начала Первой мировой войны и понимая ее масштабы, все же считали, что она не будет длиться долго и союзническим силам удастся остановить «германский милитаризм». В российской периодической печати активно формировался образ агрессивного противника, цель которого – поработить русский народ. Призывы дать достойный отпор врагу, сохранить веру предков и традиционные ценности нашей страны создавали настрой на участие широких слоев российского общества в этой справедливой войне, в которой, как полагали современники, Бог обязательно будет на стороне России.
После Октябрьских событий 1917 года образ «Великой войны» постепенно потускнел и частично стерся из памяти современников. В значительной степени это был связано с тем, что Первая мировая война стала рассматриваться в обществе как фон для героических революционных событий и создания Советского государства как первого в мире государства рабочих и крестьян. Уже в 1927 году проведенное к 10-летию Октября крупномасштабное обследование советских школьников, охватившее более 120 тыс. детей из 23 губерний России, показало, что «они не вспоминали ни саму Первую мировую войну, ни ее героев. Место Кузьмы Крючкова и летчика Нестерова заняли Чапаев, Буденный и Щорс» (Сальникова, 2009: 149).
Список литературы Образы "великой войны" в восприятии современников (по материалам российской печати за 1914 год)
- Александров Н.М. Восприятие войны и врага сельским населением Костромской губернии в начальный период Первой мировой войны // Северо-Запад в аграрной истории России. 2015. № 21. С. 154-161.
- Буранок А.О. Восприятие населением Российской империи Первой мировой войны // Внешнеполитические интересы России: история и современность. Самара, 2014. С. 26-43.
- Годовова Е.В. Восприятие казаками Первой мировой войны (на материалах источников личного происхождения) // Человек и общество в условиях войн и революций. Самара, 2015. С. 113-118.
- Жердева Ю.А., Сумбурова Е.И., Черкасова М.В. Восприятие российской политики в Галиции в дневниках и мемуарах участников Первой мировой войны // Научный диалог. 2021. № 8. С. 307-322.
- Крайкин В.В. Первая мировая война в сознании провинциальных обывателей (июль 2014 г. - сентябрь 2015 г., по материалам Орловской губернии) // Вестник Самарского государственного университета. 2009. № 3 (68). С. 73-78.
- Ланник Л.В. Будущее России и Германии глазами германской военной элиты в годы Первой мировой войны: эволюция геополитических взглядов // Диалог со временем. 2009. № 27. С. 263-278.
- Сальникова А.А. "Великая", "Святая", "Далекая".. Первая мировая война в восприятии детей-современников // Россия и современный мир. 2009. № 2 (63). С. 134-150.
- Самохин К.В. Первая мировая война в восприятии тамбовского крестьянства по сведениям уездных исправников о политических настроениях населения // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2001. № 3-3 (23). С. 11-12.
- Тропов И.А. К вопросу о восприятии власти российской интеллигенцией накануне и в годы Первой мировой войны // Первая мировая война: история и психология. СПб., 1999. С. 85-89.
- Холодов В.А. Первая мировая война в восприятии русских солдат // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 1 (31). С. 220-225.