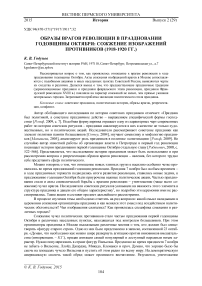Образы врагов революции в праздновании годовщины октября: сожжение изображений противников (1918-1920 гг.)
Автор: Годунов К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: "Долгая Революция" 1917 года
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о том, как проявлялось отношение к врагам революции в ходе празднования годовщины Октября. Акты сожжения изображений врагов в Москве сопоставляются с подобными акциями в иных населенных пунктах Советской России, выявляются черты их сходства и различия. Делается вывод о том, что предшествующие праздничные традиции (дореволюционные праздники и праздники февральского этапа революции, праздники Французской революции XVIII в.) повлияли на характер сожжений не менее, чем прямые указания центральных городов. Затрагивается проблема эволюции политического стиля праздника.
Советские праздники, политическая история, образы врагов, репрезентация, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/147203622
IDR: 147203622 | УДК: 94(470+571)"1917/1911":32
Текст научной статьи Образы врагов революции в праздновании годовщины октября: сожжение изображений противников (1918-1920 гг.)
Автор обобщающего исследования по истории советских праздников отмечает: «Праздник был политикой, а советское праздничное действо – выражением специфической формы господства» [ Рольф, 2009, с. 7]. Подобная формулировка отражает одну из характерных черт современных работ по истории советских ритуалов – праздники анализируются в них в качестве не только художественных, но и политических акций. Исследователи рассматривают советские праздники как элемент политики памяти большевиков [ Corney , 2004], изучают символику и мифологию праздников [ Малышева , 2005], анализируют роль праздников в политике «советизации» [ Рольф , 2009]. Не случайно автор известной работы об организации власти в Петрограде в первый год революции посвящает истории празднования первой годовщины Октября отдельную главу [ Рабинович , 2008, с. 522–566]. Представляется, что исследование истории праздников может быть использовано и при рассмотрении вопроса о репрезентации образов врагов революции – явления, без которого трудно себе представить сферу политического.
Можно говорить о том, что отношение новых элитных групп к насилию особенно четко проявлялось во время празднований годовщин революции. Праздник 7 ноября был особым временем – в ходе праздничных торжеств подводились итоги развития революции, ставились новые задачи, к празднованию годовщин Октября были приурочены важные политические акции . Частью празднования стали и акты символической борьбы с врагами революции – уничтожение (чаще всего сожжение) чучел врагов. Исследователи советских ритуалов указывали на важность этого элемента в структуре праздника и давали его общую характеристику1, но подробно эти церемонии ими не рассматривались. Такие акции и составят предмет дальнейшего рассмотрения.
В процессе изучения темы необходимо ответить на ряд вопросов: какой смысл вкладывали в церемонии сожжения организаторы праздника и как менялся этот смысл под воздействием политических обстоятельств? Чьи изображения сжигались? Как проявлялась специфика сожжения в различных городах?
Сожжение чучел политических противников стало частью празднования первой годовщины Октября в различных населенных пунктах, находящихся под контролем большевиков. При этом организаторы праздника в Москве высказывали различные мнения о том, кто должен был олицетворять «фигуру старого строя». Одно из них было представлено в записке, составленной 23 октября. «Думаю, что необходимо как можно шире развернуть агитацию против виновников вмешательства (интервенции. – К.Г. ), придав агитации самый популярный и доступный народным низам характер. Нужно популяризовать в стране фигуру Вильсона. Предлагаю во время празднеств 7 ноября не забыть о Вильсоне, Ллойд Джордже, Микадо, Клемансо и проч. Думаю, что хорошо было бы сжечь на площадях чучело Вильсона и пустить об этом радио по всему миру. На демократическую американскую сволочь такой обряд может произвести впечатление. Разумеется, уничтожение
Вильсона должно иметь народный плебейский характер»2. Автором записки являлся председатель Революционного военного совета Л.Д. Троцкий, а адресатом – Л.Б. Каменев, возглавлявший Комитет по организации Октябрьских торжеств (далее в тексте – Комитет). Л.Б. Каменев оставил на документе резолюцию: «Прошу принять во внимание и осуществить, присоединив Милюкова, Скоропадского, Кюльмана и Чернина»3.
Документ показывает, что революционные лидеры относились к сожжению чучел врагов как к немаловажной политической акции, демонстрируя при этом различное понимание того, чей образ должен символизировать главного врага революции. Называя в качестве основных врагов революции глав Англии, Японии, Франции, особое внимание Л.Д. Троцкий уделял фигуре американского президента. Л.Б. Каменев предложил расширить перечень врагов: кроме лидеров Антанты, по его мнению, символическому уничтожению должны были быть подвергнуты лидер кадетов, украинский гетман, дипломат, возглавлявший в марте 1918 г. германскую делегацию на переговорах в Брест-Литовске и австро-венгерский дипломат и военный, также ассоциирующийся с Брестским миром. Примечательно, что в списке Л.Д. Троцкого, дополненного Л.Б. Каменевым, отсутствовали такие важные для большевистской пропаганды образы врагов, как белый генерал и священнослужитель.
Отсутствие единой позиции относительно того, кто должен персонифицировать врагов революции, наложило печать на организацию сожжения. На собрании Комитета 30 октября 1918 г. состоялись «оживленные прения»4, после которых было принято предложение В.Н. Подбельского, занимавшего пост наркома почт и телеграфа РСФСР и являвшегося председателем секции связи и информации в Комитете. Комиссиям, организующим праздник в районах Москвы, было предложено «избрать в своем районе центральный сборный пункт – одну из главных площадей района. Объявить во всеобщее сведение пролетарским районам, что в 9 час. вечера 6 ноября на этой площади будет происходить сожжение Старого империалистического Строя и рождение Нового»5. Изображения должны были «олицетворять собой Старый Строй во всех его проявлениях. Здесь должны быть все устои Старого Строя: капиталисты, попы, полицейские, пушки, снаряды, ружья и проч. Главное место среди эмблемы Старого строя должна занимать фигура современного столпа международного Империализма»6. Это решение было опубликовано в «Правде» и в издании ЦК РКП (б) «Коммунар»7.
Вероятно, обсуждение вопроса о том, кого должны символизировать сжигаемые изображения, происходило и в дальнейшем. Автор заметки в газете «Коммунар», говоря о необходимости сожжения, писал: «Что ж, это может выйти очень занятно и эффектно. Притащить на площадь большое чучело попа, толстенького буржуя, коронованного дурака8 и всенародно при подходящей обстановке эти чучела предать сожжению!»9. При этом корреспондент ссылался на зарубежный опыт: «Мне приходилось видеть такие церемонии за границей, где сожжение чучел, напоминающих наиболее постылые фигуры современности, проделывается народом с большим увлечением». Как и Л.Д. Троцкий, автор заметки писал о лидерах интервентов как о главных врагах революции: «Для настоящего момента я бы считал наиболее постылыми фигурами тех, кто сейчас олицетворяет собою капиталистический мир, кто оскалив хищные клыки, идет походом на молодую социалистическую республику. Чучела Вильсона, Ллойд-Джорджа, Клемансо и прочих властителей мира вызывает в сердцах коммунаров настолько определенную ненависть, что первое и самое почетное место на праздничных кострах мы могли бы отвести чучелам этих господ». Возможно, корреспондент либо знал о переписке Л.Д. Троцкого и Л.Б. Каменева, либо был соответствующим образом проинструктирован.
Второго ноября на собрании Маршрутно-пиротехнической комиссии – одной из секций Комитета по организации праздничных торжеств – было высказано иное мнение. Глава комиссии А.В. Мандельштам заявил: «Совет10 считает, что если бы правительство санкционировало сожжение фигур таких сторонников мирового империализма, как сожжение фигур Вильсона, Клемансо, Ллойд Джорджа и других – это имело бы громадное политическое значение и было бы большой ошибкой. Этого нельзя делать сверху, другое дело, если сам народ, низы пожелают сжечь такие фигуры»11.
Празднование годовщины революции совпало по времени с окончанием важнейшего этапа мировой войны. В сложной и неопределенной военно-политической ситуации враждебная акция по отношению к лидерам Антанты могла иметь непредсказуемые последствия. Поэтому объектом символического насилия стала иная фигура – на Лобном месте было уничтожено чучело «кулака», и эта акция совпала по времени с началом нового этапа антикулацкой кампании. Заменяя чучела лидеров Антанты чучелом «кулака», организаторы праздника в большей степени импровизировали, реагируя на меняющиеся политические обстоятельства, чем действовали в соответствии с разработанным планом. Импровизированный характер выбора фигуры врага подчеркивали и некоторые свидетели сожжения. Так, корреспондент газеты «Беднота» приводил слова одного из агитаторов о том, что планировалось сжечь и чучело священнослужителя, но «обрядить попа оказалось слишком трудно. Никак не могли найти рясы, хоть снимай на улице…»12.
Автор новаторской для своего времени концепции ранней советской культуры Р. Стайтс отмечает в обобщающем труде по истории революционной эпохи, что в ходе советских праздников «сжигали соломенные чучела белых вождей и руководителей интервенции» [Критический словарь…, 2014, с. 556]. Это утверждение нуждается в уточнении: представление об интервентах как главных врагах революции не было полностью воплощено в жизнь в процессе празднования первой годовщины Октября в Москве.
Наряду с обозначением основного врага революции в ходе дискуссий был определен и характер церемонии. Материалы обсуждений показывают, что организаторы разного уровня проявили определенное единство относительно того, каким должен быть стиль сожжения: Л.Д. Троцкий, А.В. Мандельштам апеллировали к «низам», а корреспондент «Известий» назвал праздничную иллюминацию Москвы «настоящим красным карнавалом»13. Довольно тщательно спланированные акции сожжений организаторы праздника стремились представить в качестве обряда, поддерживаемого «снизу». Данное обстоятельство определило место сожжений в структуре празднования Октября: оно должно было происходить в рамках карнавального действа, предваряя более ритуализированные и централизованные праздничные церемонии (парады, демонстрации) и официальные мероприятия 7–9 ноября: VI Чрезвычайный съезд Советов, Совещание комитетов деревенской бедноты.
Вечером 6 ноября от Ваганьковского переулка к Красной площади двинулось шествие, возглавляемое телегой с чучелом кулака. В процессии принимали участие члены редакции газеты «Беднота» и представители комбедов, съехавшиеся на праздник из разных частей страны, в первую очередь для участия в Совещании делегатов комитетов бедноты.
Церемония сожжения была вписана в городское пространство Москвы особым образом. Корреспондентами газет сожжение подавалось как своеобразный акт мести, и эту идею подкрепляла репрезентация Лобного места в качестве пространства народных страданий. Один из свидетелей сожжения писал: «На Лобном месте, где когда-то секли и рубили головы нашим товарищам, которые осмеливались пред каким-нибудь барином или помещиком сказать правду. А сейчас здесь жгли чучело в виде кулака или самогонщика»14. Более четко обозначил роль памятного места другой представитель комитета бедноты: «До сих пор на это лобное место входила беднота только для казни. Много лет тому назад здесь четвертовали смелого вождя и защитника бедноты Степана Разина… В прошлом году за этими самыми Кремлевскими стенами буржуазия расстреливала наших борцов… Но теперь беднота вошла на это лобное место, чтобы окончательно уничтожить своих врагов…»15. Была сделана попытка перекодировать значение бывшего ранее враждебным пространства: место публичных казней защитников народной свободы должно было стать местом символических казней врагов революции.
Новый этап борьбы с кулачеством – часть контекста, в котором может быть истолкован смысл обряда. Совещание делегатов комитетов бедноты, члены которого участвовали в церемонии сожжения, было важной политической акцией, приуроченной к первой годовщине революции. Революционный лидер, выступивший на совещании 8 ноября, описывал кулаков как основную помеху развитию революции: «Они, кулаки и мироеды, – не менее страшные враги, чем капиталисты и помещики. И если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист»16. Выбор времени и места для этого важного заявления придавал ему особое звучание. В условиях Гражданской войны акты символического насилия приобретали существенное значение. Сожжение становилось мобилизующей акцией, организаторы которой стремились в доступной форме объяснить празднующим цели борьбы с врагами революции, обряд же можно описать в качестве формы визуализации идеи о необходимости борьбы с врагами17.
Вопрос о связи символического и «реального» насилия нуждается в дальнейшем исследова- нии. И.В. Нарский видит в актах сожжения связь с физическим уничтожением оппонентов правящей партии в более поздний период [Нарский, 2001, с. 434], в то время как Р. Стайтс полагал, что «ритуализируя иконоборчество, они (организаторы праздника. – К.Г.), возможно, надеялись отклонить реальное иконоборчество и вандализм масс» [Stites, 1987, p. 39].
Частью обряда сожжения чучела кулака стали праздничные фейерверки. В соответствии с замыслом организаторов «фейерверк будет грандиозный, какого не видала никогда не только Москва, но и Западная Европа»18. Возможно, этот план до некоторой степени достиг своей цели. Ю.В. Готье сравнивал фейерверки в Москве с сакральным действом: «вечером (6 ноября. – К.Г. ) была своего рода пасхальная ночь: у Хр. Спасителя жгли фейерверк в течение около получаса; вероятно, жгли и какие-нибудь чучела; нам было противно, и мы не ходили туда, несмотря на близость» [ Готье , 1997, с. 194]. Н.П. Окунев сопоставлял фейерверки с монархическими церемониями: «Может быть, такого длинного и многофигурного сжигания огней Москва никогда и не видывала, или не видела со времен коронации Николая II» [ Окунев , 1997, с. 230]. Оба москвича, весьма критично настроенные по отношению к большевикам, упомянули в своих дневниках о факте сожжения – по всей видимости, эти акции имели определенный резонанс в городе.
Показательно соединение церемонии сожжения с символами, олицетворяющими современность и прогресс: «"Кулак" еще не успел догореть, но общее внимание отвлекает уже другое зрелище. Автомобиль с красным прожектором, под лучами которого все зажигается: и Кремлевские стены, и Храм Василия Блаженного, и Верхние Торговые Ряды, и плотная масса толпы»19. Автомобили играли важную роль в политической символике революции и Гражданской войны20, их использование придавало особое значение церемонии.
Сожжение чучел врагов не стало частью празднования годовщины революции в Петрограде, хотя возможность этого обсуждалась организаторами. Представители культурно-просветительских отделов 2-го района города говорили о необходимости «устроить аллегорические фигуры, изображающие два противоположных мира. Одна – изображение мирового самодержавия и капиталистического строя, представленная группой лиц. Эта фигура, как отживающая и сгнившая, свергается и сжигается. Другое – изображение всеобщего мира и братства и всеобщего просвещения. Это – обозначение нового созидания и творчества»21. Сожжение фигуры, символизирующей «старый строй», должно было проходить «при пылающих факелах, пении и звуках музыки»22. Этот план не был воплощен в жизнь, но 8 ноября 1918 г. на Неве матросами Балтийского флота было организовано сожжение изображения Бастилии [Агитационно-массовое искусство…, 1971, с. 44].
Следует отметить, что акты сожжения чучел врагов были запланированы в Петрограде и ранее. Во время празднования 1 мая 1918 г. предполагалось шествие кортежа из двух колесниц, олицетворяющих Старый и Новый мир. Старый мир символизировали дракон с надписью «царизм» и колесница «Герб старого строя» в виде двуглавого орла [ Аксенов , 1974, с. 71]. Из-за недостатка средств план не был полностью воплощен в жизнь [ Немиро , с. 52], но, очевидно, ноябрьское сожжение в Москве едва ли можно считать «интересной символической новацией празднования 7 ноября» [ Stites , 1987, р. 38] – большевики предприняли попытку использовать обряд уже на первом крупном празднике советской эпохи.
Свидетель сожжения 7 ноября 1918 г. в селе Котлы Ямбургского уезда Петроградской губер-нии23 писал: «…глазам присутствующих представилась долго незабываемая картина, когда убеленные сединами, помнящие из рассказов своих отцов и дедов все ужасы власти крепостников – помещиков, веселились как малые дети, видя, как огненные языки касаются изображений когда-то сильных мира сего, на которых их приучали смотреть, как на божества, и когда вихрь огня подточил гипсовые изображения бывшего котельского крепостника «Альберта», и бюст рухнул с пьедестала в море огня, рассыпавшись на сотни мелких частиц, восторженное ура вырвалось из груди всех участников, на время оторванных от своих земледельческих и хозяйственных забот»24. Если частью московских праздничных торжеств стал акт символической борьбы с представителем враждебной социальной группы, то на уровне локального сообщества была выделена конкретная фигура, особенно важная для данного села. Радость, по мнению автора, сплачивала участников праздника: «в этот момент все были как бы спаяны электрическим током одного торжества, полного уничтожения всех останков старого рабского строя»25.
В Воронеже враги революции были изображены в виде гидры с тремя головами – царя, священнослужителя и кулака. По воспоминаниям организатора церемонии Г.С. Малюченко26, «на спе- циальном помосте гидру ждали "судьи". На середине плаца горел огромный костер из нефти. <…> Судья, одетый в рабочий производственный костюм, через рупор оглашает приговор, в котором перечисляются все преступления контрреволюции, а сама "гидра контрреволюции" приговаривается к уничтожению навсегда через сожжение» [Малюченко, 1960, с. 279–280].
В селе Брасово Брасовской волости Орловской губернии были сожжены чучела «попа, кулака и самогонщика»27. В некоторых населенных пунктах уничтожение изображений врагов проходило не в форме сожжений: в Белозерске чучело капитализма стащили с праздничной трибуны28, а в Перми были организованы похороны империализма [ Нарский , 2001, с. 246]. Симптоматично, что в этих городах враг обозначался весьма обобщенно («империализм», «капитализм»), изображения конкретных противников большевиков не были уничтожены.
Уничтожение чучел в различных населенных пунктах показывает, что иерархия образов врагов революции варьировалась в зависимости от местности и аудитории, на которую была рассчита- на церемония сожжения, в различных городах во время праздника актуализировались различные образы врагов29. Можно, вероятно, говорить об относительно невысоком уровне координации пропагандисткой деятельности в масштабах Советской России.
Автор работы по истории советских праздников, М. Рольф, отмечает: «Своеобразие культурного феномена советского праздника заключалось и в том, что он использовался для "внутренней советизации" большевистской империи» [Рольф, 2009, с. 259–260]. По его мнению, решения праздничных комиссий Москвы сыграли существенную роль в формировании советского праздничного канона. Применительно к периоду Гражданской войны этот тезис требует комментариев и дополнений. Представляется, что праздники рассматриваемой эпохи еще не были в полной мере унифицированы столичными директивами, единый для всей Советской России сценарий сожжения от- сутствовал, а инициативы и эксперименты местных активистов играли немалую роль в том, что праздники отличались определенным разнообразием.
Причину относительной распространенности церемонии сожжения в различных городах Советской России едва ли следует искать в централизованном характере раннесоветских празднеств. Важно учесть иное обстоятельство: советская праздничная традиция вобрала в себя элементы предшествующих традиций, ориентация на эти традиции оказала не меньшее воздействие на формирование советского праздничного канона, чем целенаправленные усилия большевиков по унификации праздника. Недостаток опыта у организаторов праздничных торжеств вынуждал их опираться на известные им праздничные образцы.
Сожжение «символов старого строя» соотносится с февральским этапом революции. Уничтожение символики, олицетворяющей врага революции, было важной формой политического насилия в 1917 г. [ Колоницкий , 2012, с. 88–90, 96–97; Тарасов , 2014, с. 28–39].
Исследователи указывают на то, что существенное влияние на формирование традиции сожжения оказала и дореволюционная праздничная традиция. С.Ю. Малышева пишет о влиянии «языческих, дохристианских праздников и культов», в частности, сожжения чучела Зимы на Масленицу [ Малышева , 2005, с. 295].
О влиянии этой традиции писал автор цитировавшейся ранее заметки в газете «Беднота»: «Давным-давно был у наших предков хороший обычай: праздновали наступление весны и жгли на этом празднике чучела зимы. Весна – новая жизнь, расцвет всех сил природы, а зима – смерть всего живого. Пролетарская весна началась в октябре и похоронила суровую зиму – старый мир, мир угнетения, мир, где хорошо жилось только дармоедам и где была вечная каторга для тружени-ков»30.
Отмечая формальное сходство обряда сожжения изображений врагов с ритуальными проводами-похоронами различных мифологических существ, укорененных в дореволюционной культуре, Н.С. Полищук пишет о том, что смысл этих обрядов был различен: «в октябрьских торжествах этот компонент древней аграрной обрядности <…> приобрел совершенно иной смысл. Теперь это был политический, а не магический акт, ибо вместо умирающего и воскресающего божества "хоронили" <…> символы ненавистного прошлого, которому не должно быть возврата» [ Полищук , 1987, с. 14].
Можно говорить и о влиянии традиций праздников Французской революции XVIII в. Книга французского музыковеда Жюльена Тьерсо, переведенная в начале 1918 г. на русский язык, оказала большое влияние на организаторов раннесоветских праздников [Лимонов, 1989, с. 391]. Организа- тор сожжения «гидры контрреволюции» в Воронеже вспоминал о том, что идея сожжения пришла к нему «под влиянием прочитанной книги Тьерсо "Празднества и песни Французской революции". Увлекшись описанием театрализованных карнавальных шествий эпохи французской революции 1789–1793 годов, я решил организовать подобное карнавальное шествие и в Воронеже во время празднования первой годовщины Октябрьской революции» [Малюченко, 1960, с. 278]. Исследовательница советской визуальной пропаганды видит в этой акции и влияние милитаристской пропаганды эпохи Первой мировой войны – изображение врагов в виде змей было весьма распространенной практикой в те годы [Bonnell, 1997, p. 195].
Описывая символическое значение огня в различные периоды истории, Ю.И. Иванова отмечает, что важной функцией практик сожжения во время праздников является «символическое очищение в переломный момент перехода к новому сезону, к новому отрезку жизни» [ Иванова , 1983. с. 122]. Это наблюдение помогает «расшифровать» политическое послание праздника.
Тема «очищения» поднималась в различных политических акциях, связанных с празднованием первой годовщины Октября, в частности, во внутрипартийных дискуссиях о характере праздника. Празднование первой годовщины Октября проходило на фоне дискуссии о полномочиях Чрезвычайной комиссии. К осени 1918 г. многим видным членам партии стало очевидно, что деятельность ВЧК фактически не контролируется никакими ведомствами, кроме Совета народных комис-саров31.
На сентябрьском заседании Петроградского Совета профсоюзный деятель Д.Б. Рязанов поднял вопрос об улучшении к празднику положения арестованных. Основной аргумент Д.Б. Рязанова заключался в том, что это создаст эмоциональный настрой, необходимый для празднования годовщины революции: «для того, чтобы этот праздник был проведен как праздник радости, как праздник, не омраченный ни одним пятнышком, для этого необходимо приготовить соответствующую психологическую атмосферу»32. Д.Б. Рязанов говорил о важности очищения революции: «только тогда, когда питерский пролетариат сможет с уверенностью сказать, что собрались под этим красным знаменем как в Смольном институте, так и во Дворце Труда, что на этом красном знамени нет ни одной капли невинной крови пролетариев и городской бедноты, только тогда с чистой совестью и с чистым сердцем мы можем праздновать перед лицом всего международного пролетариата этот праздник»33.
В ответной речи Г.Е. Зиновьев утверждал, что террор и праздник совместимы. Председатель Петроградского Совета представлял террор в качестве необходимого средства победы в Гражданской войне, по-иному описывая необходимость очищения революции: «кто желает делать историю, кто желает очистить наш грязный мир от буржуазии и ее прислужников, тот не может отказаться от террора, тот должен обнажить меч и тот не должен отложить его до той минуты, пока победа будет обеспечена вполне»34.
Дискуссия о красном терроре не оказала, судя по всему, прямого воздействия на практику праздничного сожжения, но логика необходимости очищения праздника от врагов революции, выраженная Г.Е. Зиновьевым, вероятно, получила развитие в ходе сожжений. Можно допустить, что уничтожение чучел было зримым воплощением идеи очищения праздника от элементов, не принимающих идеи революции.
В 1919‒1921 гг. предпринимались попытки организовать сожжение чучел врагов во время праздников35, но масштабных церемоний, подобных ноябрьской церемонии 1918 г., в годы Гражданской войны не проводилось, гораздо более редкими становятся их описания в прессе36.
Вероятно, данное обстоятельство свидетельствует об эволюции политического стиля советских праздников. Если в ходе празднования Октября в 1918 г. могла иметь место инициатива активистов различного уровня, то позднее праздник приобретает более централизованный характер, его организаторы уже не стремились представить его «низовой», народный стиль. Так, организаторы праздника в Москве призывали: «…в красной столице Советской Республики должен царить образцовый порядок, поддерживаемый пролетариатом. Суровая товарищеская дисциплина и выдержка самих рабочих масс обеспечит такой порядок в дни 2-й годовщины Великой Октябрьской Революции. К дисциплине и выдержке Октябрьская Комиссия призывает товарищей рабочих»37. Сожжению, описываемому год назад как карнавальное, спонтанное действо, в таком политикокультурном контексте придавалось меньшее значение, праздник должен был демонстрировать организованность, порядок и дисциплину.
Существенное место в структуре праздничных торжеств 1919–1921 гг. начинают занимать массовые театрализованные представления. Можно говорить о постепенной профессионализации праздников: в одной из наиболее масштабных постановок, «Взятие Зимнего дворца»38, приняли участие члены флотских и армейских драматических кружков, войсковые части, профессиональные актеры. Стиль мероприятия образно характеризует К. Кларк: «…бог-режиссер, невидимый для зрителя и спрятанный от актеров, руководил каждым движением на сцене, почти как кукольник, дергающий за ниточки своих марионеток» [ Кларк , 1997, с. 213]. Сожжение чучел врагов в том виде, в котором оно было организовано в 1918 г., едва ли вписывалось в подобный политико-культурный контекст. Сосуществование, взаимовлияние и конкуренция «демократической» и «консервативной» тенденций развития праздника требует, как представляется, дальнейшего исследования.
На основании изучения практики символического уничтожения врагов революции можно сделать вывод о том, что градация образов врагов менялась в зависимости от изменения политической ситуации осенью 1918 г. На распространение праздничного сожжения оказали воздействие не только директивные указания Москвы, но и опыт предшествующих праздников. При этом можно говорить и об определенном разнообразии церемоний сожжения в различных населенных пунктах, находящихся под контролем большевиков. Эти характерные черты раннесоветского праздника позволяют считать, что процесс формирования новой идеологии не был линейным и однонаправленным.
Список литературы Образы врагов революции в праздновании годовщины октября: сожжение изображений противников (1918-1920 гг.)
- Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley; Los Angeles; London, 1997
- Corney F. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca; New York; London, 2004
- Geldern J. von. Bolshevik Festivals. Berkeley; Los Angeles; London, 1993
- Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: матер. и исслед. М., 1971
- Аксенов В.С. Организация массовых праздников трудящихся (1918-1920). Л., 1974
- Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997.
- Кларк К. Петроград -ритуальная столица революционной России//Звезда. 1997. № 1
- Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы первой мировой войны. М., 2010
- Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб., 2012
- Лапин В.В. Петербург. Запахи и звуки. СПб., 2009.
- Ленин В.И. Речь на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний 8 ноября 1918 г.//Полн. собр. соч. Т. 37
- Лимонов Ю.А. Празднества Великой французской революции в 1789-1793 гг. и массовые праздники Советской России в 1917-1920 гг.//Великая французская революция и Россия. М., 1989
- Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М., 1978
- Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917-1927). Казань, 2005
- Малюченко Г.С. Первые театральные сезоны новой эпохи//У истоков. М., 1960
- Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-1922. М., 2001
- Немиро О.В. Художники Петрограда -революционным праздникам//Искусство. 1967. № 10. Н
- Новоселов Д.С. Кризис ВЧКвконце 1918 -начале 1919 гг.//Отеч. история. 2005. № 6
- Окунев Н.П. Записки москвича. М., 1997. Кн. 1
- Полищук Н.С. У истоков советских праздников//Сов. этнография. 1987. № 6
- Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2008
- Ратьковский И.С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб., 2006. С. 210-234
- Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009
- Тарасов К. А. Проявления политического насилия в Петроградском гарнизоне в мае -июле 1917 г.//Новейшая история России. 2014. № 1
- Stites R. The Origins of Soviet Ritual Style: Symbol and Festival in the Russian Revolution//Symbols of Power: the Esthetics of Political Legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe. Stockholm, 1987
- Иванова Ю.В. Обрядовый огонь//Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983
- Критический словарь русской революции: 1914-1921. СПб., 2014