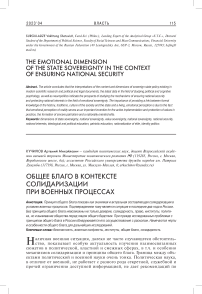Общее благо в контексте солидаризации при военных процессах
Бесплатный доступ
Принцип общего блага показан как значимая и актуальная составляющая солидаризации в условиях военных процессов, в подтверждение чего - наличная ситуация в последние два года в России. Без принципа общего блага невозможны не только доверие, солидарность, право, институты, политика, но и выживание общества перед лицом общего бедствия. При прежде исследованных проблемах с принципом общего блага в России обнаруживается его сосуществование с расколом. Намечаются черты и особенности общего блага для дальнейших исследований.
Безопасность, военные конфликты, институты, общее благо, солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170200515
IDR: 170200515 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9699
Текст научной статьи Общее благо в контексте солидаризации при военных процессах
Наличная военная ситуация, далеко не часто случающееся обстоятельство, показывает особую актуальность изучения взаимосвязанных сюжетов в политической, властной и смежных сферах, в т.ч. и особенно механизмов солидаризации и принципа общего блага. Граница между объектами политической и военной науки очень тонка. Политическая наука, в отличие от военной, не работает с разного рода секретной, служебной и прочей ограниченно доступной информацией, не дает рекомендаций по ведению обороны и боя (а в нынешней ситуации не может даже «советовать», когда и как вести дипломатическую работу), однако она в состоянии, что невозможно для военной науки, исследовать публичную сферу государства, в условиях вооруженного конфликта переживающую беспрецедентное испытание на прочность.
Для успеха военных действий была и остается необходимой должная мотивация на фронте, однако мало исследуется вопрос о поддерживающей мотивации в тылу, от настроения которого тоже во многом зависит боевой успех. При всей секретности боевого процесса фронт и тыл имеют общий оборот структуры (как правил и ресурсов [Гидденс 2005]): ввиду нахождения в одном правовом поле, в котором фронт и тыл взаимосвязаны, а также и особенно в силу постоянного общения и снабжения. Вместе с командами и ресурсами снабжения между фронтом и тылом происходит обмен смыслами, эмоциями, ожиданиями, переживаниями и т.п. Возникает вопрос, что необходимо для того, чтобы фронт сумел наиболее успешно выполнить боевые задачи? Как, соответственно, должны измениться конфигурации политики и власти, экономики и общественных отношений в тылу? Может ли мотивированный фронт успешно действовать при немотивированном, отвлеченном на эгоистические корыстные интересы тыле?
За последние два года в ходе вооруженного конфликта, оказавшего беспрецедентное влияние на российскую социальность, случилось немало примеров. Неодинаковое понимание происходившего разными группами и людьми в России неоднократно порождало между ними сомнения и конфликты. С объявлением мобилизации осенью 2022 г. имела место массовая эмиграция с агрессией в адрес оставшихся жить в России1. Публично декларируемая лояльность государству и его военному курсу среди граждан не всегда соответствовала их практическому поведению в повседневной жизни, в которой у них не складывалось ощущение бедствия, чувство сопричастности к общей трагедии и соответствующая мотивация. Естественен вопрос: есть ли у людей в России что-то общее, ради чего они могли бы объединиться и что защищать? Насколько возможна или невозможна их солидарность как большого социетального общества, а не как солидарных общностей на социальном, более мелком уровне? Итак, общее благо оказалось решающим фактором жизнеспособности российского общества и государства в годы тяжелого испытания.
Общее благо – это принцип, при котором идеи и ресурсы, рефлексивно важные для общества, в практиках и институтах, преобладают над принципами несогласующихся частных эгоистических и групповых интересов. Общее благо при этом не отменяет наличия всегда a priori существующих частных личных интересов, последние всего лишь не должны в массе своей противоречить общему благу. Общему благу можно противопоставить принцип частного эгоистического и группового блага, заключающийся в нигилизме к общему благу в угоду интересам тех или иных индивидуальных (индивиды) и (или) групповых (общности/группы) акторов.
Общее благо по праву можно считать как минимум одним из родовых элементов межличностной и институциональной солидарности и доверия [Иванов, Данилов 2014; Штомпка 2012], любого института [Парсонс 2010: 306], явле- ния права в юснатуралистском смысле1 [Зорькин 2018], современной (modern) политики [Конституирование… 2018; Кучинов 2021]. Без общего блага не будет ни доверия (невозможно доверять людям, живущим только своими частными интересами), ни солидарности (невозможна солидарность с теми, кому не доверяешь), ни права (невозможно соблюдение правовых норм в условиях, когда нет доверия к тому, что другие акторы тоже будут их соблюдать), ни институтов (невозможно поддерживать какие-либо отношения, ожидания, работоспособные правила2, если не иметь по поводу них общие представления, понимание и общую готовность им следовать), ни политики (в немаки-авеллистском смысле – как конкурентный диалог равных по поводу общественного развития, или в макиавеллистском понимании – как цивилизованная борьба за власть, при отсутствии доверия к оппоненту как равноправному, предсказуемому, следующему правилам игроку). Без общего блага невозможно и выживание общества перед вызовами того или иного бедствия.
В России с принципом общего блага существуют проблемы [Граждане… 2011; Гражданское… 2013; Конституирование…, 2018; Кучинов 2021]. Это подтверждают прежде всего опросы, проведенные исследователями ИС РАН. С 1993 г. российские респонденты неизменно отвечают, что для них и российского общества наиболее важными принципами и ценностями являются выгода, власть, сила и менее значимыми – уважение к чужому мнению, верховенство закона, справедливость. Другие опросы и фокус-группы, повседневные наблюдения обнаруживали распространенность эгоизма и аморальности в российской социальности, нежелание многих объединяться и приходить друг к другу на помощь. Соответственно, в России видоизменяются политическая и властная сферы. Не складываются в достаточной мере механизмы конкуренции по поводу проектов общественного развития – они подменяются практиками архаичного господства; не складывается подлинное верховенство права как общественного регулятора – оно замещается гипертрофированными неформальными договоренностями в микрогруппах. Мало внимания уделяется тому, что для социальности с такими параметрами солидарности и несо-лидарности, с кризисом общего блага оказаться в испытаниях вроде нынешнего военного конфликта может быть специфически опасно или непредсказуемо. Тем не менее, чего не ожидали исследователи, ситуация оказалась весьма оптимистичной.
Однако с осени 2022 г. наметились признаки изменения такой ситуации, в частности, возникли слабые ростки солидаризации. Изучение этих явлений представляет значительный исследовательский интерес. Работы разных авторов и их данные3 [Зимова, Фомин 2022; Шушпанова 2022]4, а также наблюдения автора данного исследования позволяют констатировать, что солидаризация (эмпирически проявляющаяся, среди прочего, даже в увеличении доверия власти), как бы парадоксально это ни звучало, сосуществует с общественным расколом. Появляется своеобразная диалектика солидарности и раскола:
«противники и сторонники СВО» демонстрируют весьма несхожее понимание восприятия ситуации при том, что обе стороны претендуют на формулирование некоего общего идеала должного понимания проблем. Актуализировался вопрос безопасности, что, несомненно, имеет самое непосредственное отношение к общему благу. Пониманий и интерпретаций общего блага много, и две стороны несостоявшегося диалога создают свои дискурсы общего блага, ввиду чего между ними происходит раскол, порождающий все большие дистанции для взаимопонимания и диалога. Раскол понимается как социально (и политически) неоптимальное несоответствие интересов тех или иных групп при невозможности его цивилизованного преодоления, часто – с невозможностью или ограниченной возможностью диалога сторон. При расколе солидарность и общее благо a priori невозможны.
Одна из предварительных гипотез, требующая проверки: для части россиян принцип общего блага актуализировался под непосредственным воздействием затронувших их испытаний и (или) бед. Либо у весьма большого числа граждан (до 55%, готовых помогать военным1) были те или иные латентные, публично не проговариваемые структуры общего блага, не зафиксированные в исследованиях за предыдущие 30 лет, которые стали актуальными с наступлением непосредственного военного процесса. То есть, воспроизведение принципа общего блага может быть артикулируемым и неартикулируемым. Так или иначе, важно попытаться наметить возможные факторы солидаризации.
При этом – еще одна предварительная гипотеза – принцип общего блага актуализировался не самым очевидным и не вполне ожидаемым образом. Если в теоретически оптимальном случае общее благо возвышается над частными индивидуальными, согласует их, то в наблюдаемых российских случаях сюжеты формирования общего блага оказываются суммой частных при гипотетических угрозах. Например, судя по сообщениям в социальных сетях осенью 2022 г., среди мотиваций военнослужащих нередко распространены идеи защиты малой родины, семьи, солидарности со своим окружением – знакомыми, друзьями. В обычной ситуации это выглядело бы как проявление принципа индивидуального частного блага, но в ситуации бедствия воспринимается как сюжет формирования общего блага, поскольку такие идеи-мотивации разных людей не противоречат друг другу. Также наиболее действительная мотивация людей для помощи мобилизованным и фронту определяется пониманием того, что всем и каждому по отдельности будет лучше, если у военных на фронте будет меньше проблем, чтобы враг не прошел вглубь российской территории, и всем и каждому не придется терпеть тяжести бедствия непосредственно. Распространена мотивация помощи военнослужащим с аргументацией, что они – тоже люди, которым для жизни необходимо покупать и доставлять те или иные товары и вещи. После эмиграции из России многих несогласных с государственной точкой зрения на происходящее, к тому же обладавших медиаресурсом, оказалось, что уровень противоречий и конфликтов в российской социальности относительно происходящего не столь высок. Люди в соответствии с государственной точкой зрения относительно похоже находятся в ожидании окончания наличного бедствия. Это опять же оказывается скорее проявлением принципа общего блага как суммы частных благ, но не принципом общего блага как неким надчастным явлением.
Сумма частных благ – более доступная обывателю (и исследователю) категория, чем эмерджентный результат совокупности частных благ. Так случается не только в связи с недостаточным абстрактным мышлением на социальнополитические темы, когда оказывается довольно сложно понять существование надындивидуальных и социетальных порядков и интересов, но и из-за особенностей российской социальности, прежде всего из-за ее недостаточной институционализированности.
Тем не менее, на наш взгляд, недостаточная исследованность особенностей восприятия и реализации принципа общего блага в России не умаляет факта его кризиса. Конечно, весьма вероятно, что в нынешнее экстремальное для России время общее благо как принцип получит развитие. Будущие этапы изучения данной проблемы могли бы показать, что либо ранее авторы не видели общее благо в своих исследованиях, либо его действительно становится больше. Вопросы общего блага и политики, а также дилемма демократического и авторитарного политического режима не исчезают с возникновением военного испытания, а приобретают иные предпосылки. Российская социальность может существенно измениться, проходя данные испытания, что, очевидно, потребует углубленного и тщательного исследования.
Список литературы Общее благо в контексте солидаризации при военных процессах
- Гидденс Э. 2005. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. (пер. Тюрина И.). М.: Академический проект. 528 с.
- Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка (отв. ред. С.В. Патрушев; ред. колл.: С.Г. Айвазова, П.В. Панов). 2011. М.: РАПН; РОССПЭН. 318 с.
- Гражданское и политическое в российских общественных практиках (под ред. С.В. Патрушева). 2013. М.: РОССПЭН. 525 с.
- Зимова Н.С., Фомин Е.В. 2022. Сетевая солидарность как ответ на коллективную травму (на примере специальной военной операции России на Украине). - Социально-гуманитарные знания. М.: № 3. С. 148-165. DOI: 10.34823/SGZ.2022.3.51809.
- Зорькин В.Д. 2018. Суть права. - Вопросы философии. М.: Изд-во ИФ РАН. № 1. С. 5-16.
- Иванов А.В., Данилов С.А. 2014. Социальное доверие и институциональный порядок общества в социокультурном контексте западных и восточных культур: сравнительный анализ. - Фундаментальные исследования. Пенза: ИД «Академия Естествознания». № 11. С. 1856-1857.
- Конституирование современной политики в России: институциональные проблемы (отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова). 2018. М.: РОССПЭН. 262 с.
- Кучинов А. М. 2021. Структуры и акторы формирования российского политического пространства: институциональные аспекты: дис. ... к.полит.н. М. 210 с.
- Парсонс Т. 2010. Пролегомены к теории социальных институтов. -Глобализация и социальные институты: социологический подход (отв. ред. И.Ф. Девятко). М.: Наука. C. 295-330.
- Штомпка П. 2012. Доверие - основа общества. М.: Логос. 445 с.
- Шушпанова И.С. 2022. Особенности социально-политической консолидации российского общества и государства в условиях проведения специальной военной операции: социологический анализ. - Наука. Культура. Общество. № 4. С. 97-108. DOI: 10.19181/nko.2022.284.8.