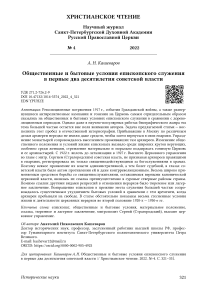Общественные и бытовые условия епископского служения в первые два десятилетия советской власти
Автор: Кашеваров Анатолий Николаевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Революционные потрясения 1917 г., события Гражданской войны, а также развернувшиеся антирелигиозные кампании и гонения на Церковь самым отрицательным образом сказались на общественных и бытовых условиях епископского служения в сравнении с дореволюционным периодом. Однако даже в научно-популярных работах биографического жанра эта тема большей частью остается вне поля внимания авторов. Задача предлагаемой статьи - восполнить этот пробел в отечественной историографии. Прибывавшие в Москву по различным делам архиереи нередко не имели даже средств, чтобы затем вернуться в свои епархии. Упразднение монастырей сопровождалось выселением проживавших там архиереев. Изменение общественного положения и условий жизни епископата вызвало среди широких кругов верующих, особенно среди женщин, стремление материально и морально поддержать гонимую Церковь и ее архипастырей. С 1922 г. вплоть до легализации в 1927 г. Высшего Церковного управления во главе с митр. Сергием (Страгородским) советская власть, не признавая архиереев правящими в епархиях, регистрировала их только священнодействующими за богослужениями в храмах. Поэтому всякое проявление их власти административной, а тем более судебной, в глазах советской власти было актом противления ей и даже контрреволюционным . Весьма широко применяемым средством борьбы со священнослужителями, оставшимися верными канонической церковной власти, являлась их ссылка преимущественно в суровые северные районы страны. Помимо ссылки другими видами репрессий в отношении иерархов было тюремное или лагерное заключение. Возвращение епископов в прежние места служения большей частью сопровождалось существенным ухудшением бытовых условий в сравнении с тем временем, когда архиереи пребывали на свободе. В статье обстоятельно показаны весьма стесненные условия жизни и деятельности церковных иерархов во второй половине 1920-х - 1930-е гг.
Епископат, общественные и бытовые условия, материальное положение, ссылка, тюремное и лагерное заключение, митрополит сергий (страгородский), высшее церковное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/140296142
IDR: 140296142 | УДК: 271.2-726.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_321
Текст научной статьи Общественные и бытовые условия епископского служения в первые два десятилетия советской власти
Professor at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Основные этапы и особенности жизни и деятельности Русской Православной Церкви в советскую эпоху являются объектом интенсивного изучения отечественных историков с начала 1990-х гг. Важное место среди этой проблематики занимают исследования, посвященные как церковному служению видных православных иерархов, так и положению высшего церковного управления в целом [Зеленогорский, 1991; Иоанн Снычев, 1993; Губонин, Мазырин, 2012; Лавров, Лобанов и др., 2008; Лобанов, 2008; Одинцов, 2002; Одинцов, 2015; Сафонов, 2019; Сорокин, 2005; Сурков, 2012]. Однако повседневная жизнь епископата и, прежде всего, ее общественные и бытовые условия, которые весьма значительно отличались от таковых дореволюционной эпохи, не стали еще предметом специального внимания современных исследователей. Примечательно, что даже в научно-популярных работах биографического жанра эта тема остается вне поля внимания авторов [Одинцов, 2013; Поповский, 2002; Фомин, 2003]. Задача предлагаемой статьи — восполнить этот пробел в отечественной историографии.
Условия жизни и епископского служения первых двух десятилетий советской власти существенно отличались от быта высшей церковной иерархии в царской России. Протопресвитер Г. Шавельский, который был весьма осведомлен о бытовых условиях и умонастроениях епископата предреволюционного времени, отмечал в своих воспоминаниях следующее: «У нас, как ни в одной из других Православных Церквей, епископское служение и вся жизнь епископа были обставлены особенным величием, пышностью и торжественностью. В этом, несомненно, проглядывала серьезная цель — возвысить престиж епископа и его служения. Несомненно также, что пышность и торжественность всей архиерейской обстановки неразумными ревнителями владычного сана — с одной стороны, самыми честолюбивыми и славолюбивыми владыками — с другой, у нас часто доводились до абсурда, до полного извращения епископского служения. Они делали наших владык похожими на самых изнеженных и избалованных барынь, которые спать любят на мягком, есть нежное и сладкое, одеваться в шелковистое и пышное, ездить непременно в каретах… Внешний блеск и величие часто скрывали от толпы духовное убожество носителя высшего священного сана, но компенсировать его не могли. Мишура всегда останется мишурой, как бы ни подделывали ее под золото. И один наружный блеск внешней обстановки епископского служения не мог дать того, что требуется для настоящего епископа. В конце же концов жестоко страдала из-за нее Церковь» (Шавельский, 1996, 168–169). Далее протопресвитер делал вывод о том, что выделенные им особенности архиерейского быта были тождественны образу жизни привилегированных слоев общества и вели к оторванности высшей иерархии «и от своей паствы, и от своего клира». Вместе с тем протопресв. Г. Шавельский признавал следующее: «Имел наш епископат, конечно, и достойных представителей» (Шавельский, 1996, 172, 173).
Осуществленная советской властью конфискация церковной собственности и капиталов существенным образом ухудшила материальное положение епископата. 21 (8) мая 1918 г. Высшим церковным управлением (далее — ВЦУ) было принято «Положение об обеспечении епархиальных и викарных архиереев». Согласно этому документу, годовой оклад этих архиереев был установлен в размере 7500 руб. (или 625 руб. в месяц) из расчета 5% сбора с валового дохода монастырей, поступавшего в общецерковную казну (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 21. Л. 163; Д. 25. Л. 4 об.). Однако поступление средств на обеспечение епископата весьма затруднялось тем, что монастырское имущество было конфисковано, а многие обители закрыты. Следствием этого было не только задержание выплат окладов епархиальным и викарным архиереям. Нередко те из них, кто приезжал в столицу в Высшее церковное управление, а также по различным делам, из-за недостатка средств не могли вернуться в свои епархии. Например, епископ Вилюйский и Якутский Евфимий (Лапин) в прошении, отправленном в Высшее церковное управление в декабре 1918 г., так описывал свое незавидное положение: «Будучи лишен возможности после окончания занятий Св. Собора выехать из Москвы в епархию и не получая ниоткуда и никакого содержания с 8 сентября текущего года, испытываю острую нужду в деньгах для уплаты революционного налога» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 21. Л. 164). В общецерковной казне по состоянию на 2 января 1919 г. на выплату окладов епархиальным и викарным архиереям имелось «лишь до 14000 рублей» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 21. Л. 164 об.). Примечательно, что определенный высшей церковной властью в мае 1918 г. годовой оклад для епархиальных архиереев за весь период полыхавшей в 1918–1920 гг. кровавой междоусобицы так и не был повышен, хотя цены, особенно на продовольствие, все время повышались. Так, в одном из определений ВЦУ подчеркивалось, что «в октябре 1919 г. любой из правящих архиереев мог купить на свое месячное содержание в 625 руб. только фунт постного масла или три фунта манной крупы» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 25. Л. 1).
Отмеченные обстоятельства вызвали среди верующих вполне объяснимое желание материально и морально поддержать подвергнувшиеся гонениям Православную Церковь и ее духовенство. Характерное описание настроений верующих в начале 1920-х гг. («в день храмового праздника у Словущего Воскресения, что в Барашевском переулке в Москве»), оставила одна из почитательниц патр. Тихона. «Утро серое, неприглядное. Моросит дождь. Вот подходит с Покровки архиерей. Ряса его внизу забрызгана грязью, в руке он несет круглую коробку со своей митрой. В толпе снимают шапки, его обступают, и все тянутся к нему за благословением. Но и это, к моему удивлению, происходит тихо и мирно. А владыка старается никого не обойти своим благословением, и лицо его также спокойно и радостно. „Какая разница, — думается мне, — когда наши епископы разъезжали в каретах, их так не встречали. А если и собирались кучки зевак, то главным образом для того, чтобы налюбоваться на запряженную цугом и разукрашенную золочеными гербами митрополичью карету и бриллиантами на его клобуке. А теперь… смиренно они (архиереи. — А. К. ) ходят пешком во всякую погоду. Никаким внешним великолепием они не окружены, а с каким почетом и благоговением встречает их народ… Отошли от них блага мирские, и сами они стали не от мира сего…“» (Левитин, Шавров, 1996, 317).
Особую роль в морально-психологической и материальной поддержке епископата сыграли в тот период верующие женщины. Вот как это описывал известный священник и церковно-общественный деятель до- и послереволюционного Петрограда М. П. Чельцов: «Около каждого молодого священника, а тем более архиерея образуется толпа почитательниц, сопровождающих его на каждом шагу, почти обязательно присутствующих за его богослужением, повсюду распространяющих славу о нем, горой, с пеной у рта защищающих его от нападок недоброжелателей или просто равнодушных к нему, требующих для него от всех почета, уважения и главное — материального благополучия » (Чельцов, 1994, 437). Отмечая это новое явление в церковной жизни, свящ. М. Чельцов связывал его появление с развернувшимися гонениями на Церковь и ее служителей: «Теперь мужчины, боясь за себя, за службу, за кусок хлеба, как-то попрятались, особенно с 1921–1922 годов. Женщины, которым в большом их количестве нечего было бояться, выступили вперед, подошли вплотную к Церкви, к церковным делам. К духовенству» (Чельцов, 1994, 437).
До революционных потрясений 1917 г. православные архиереи — правящие и викарные, — как правило, проживали в монастырях. Однако с началом кампании по вскрытию святых мощей, развернувшейся осенью 1918 г., многие уездные и губернские Советы стали проводить политику закрытия монастырей на своей территории, реквизиции их помещений и всех имуществ [Кашеваров, 2005, 200]. В результате национализации церковного и монастырского имущества, проведенной согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», а также упомянутой выше кампании по вскрытию мощей, в России из имевшихся к началу 1918 г. 1103 монастырей уже к концу 1921 г. было национализировано, по сведениям В. Ф. Зыбковца, 722 и оставалась действующей, таким образом, 381 обитель [Зыбковец, 1975, 110]. Процесс ликвидации монастырей завершился к середине 1930-х гг., когда на территории СССР не осталось ни одной действующей обители. Упразднение монастырей сопровождалось выселением не только их насельников, но и проживавших там архиереев.
С образованием в мае 1922 г. обновленческого Высшего церковного управления Советское государство формально в качестве Русской Православной Церкви признавало лишь обновленцев. Патриаршая Церковь и органы ее управления не имели официального признания со стороны властей. Следует особо подчеркнуть, что советская власть вплоть до легализации в августе 1927 г. органов высшей церковной власти — Временного Патриаршего Синода, возглавляемого митр. Сергием (Страгород-ским), — и последовавшего разрешения архиереям организовывать при себе временные епархиальные советы (c обязательной регистрацией их в местных органах власти) не признавала также и иерархическую организацию Церкви [Цыпин, 2006, 422]. Например, в последнем абзаце приговора Московского ревтрибунала на процессе «московских церковников», который проходил в мае 1922 г., объявлялось, что трибунал «устанавливает незаконность существования организации, называемой православной иерархией» (Архивы Кремля, 1997, 212). Следует особо отметить, что советская власть рассматривала любое проявление епископской власти (административной или судебной) как акт противления режиму, церковную контрреволюцию». Это было связано с тем, что богоборческая власть не признавала архиереев правящими в епархиях и регистрировала их только священнодействующими за богослужениями в храмах. Весьма красноречиво о положении архиереев в Ленинграде в середине 1920-х гг. свидетельствовал в своей памятной записке о причине церковной разрухи в 1920-х гг. уже упомянутый выше свящ. М. Чельцов. Он писал, что «епископам приходилось таиться, во всем урезать свое архиерейское служение и, действительно, сводить свои права лишь к богослужению по церквам. Даже всякая написанная на бумаге резолюция была для них опасна, как наглядный акт их правления. И они должны были избегать их и делать назначения устно, или в частном письме давая о них извещения» (Чельцов, 1994, 434).
Сложность архиерейского служения заключалась еще и в том, что архиереи не только были лишены избирательных прав (согласно ст. 65 первой Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., избирательных прав лишались все потенциальные противники советской власти, к которым также были отнесены «монахи и духовные служители церкви и религиозных культов» (История советской конституции, 1957, 85)), но даже не могли пользоваться государственными библиотеками. Чтобы иметь нужную информацию из газет, журналов, литературы, они вынужденно прибегали к помощи тех своих прихожан, которые не имели подобных ограничений (Краснов-Левитин, 1977, 264).
После окончания Гражданской войны весьма широко применяемым средством борьбы со священнослужителями, оставшимися верными канонической церковной власти, являлась их ссылка — преимущественно в суровые северные районы страны. На том этапе применялся декрет ВЦИК от 10 июля 1922 г. об административной высылке, позволявший внесудебным порядком, согласно прилагавшейся к декрету инструкции НКВД, ссылать на срок до трех лет лиц, «пребывание коих в данной местности… представляется по их деятельности, прошлому, связи с преступной средой с точки зрения охраны революционного порядка опасным» [Зеленогорский, 1991, 151–152].
Так, в конце ноября 1924 г. епископ Лука (Войно-Ясенецкий) отправился в свою первую ссылку, местом которой первоначально был назван Енисейск. 7 декабря 1924 г. Енисейский губернский отдел ГПУ постановил вместо суда «избрать мерою пресечения гр. Ясенецкого-Войно высылку в деревню Плахино» в низовьях реки Енисей, в 230 км за Полярным кругом. По воспоминаниям епископа, добравшись с большим трудом до Плахино, он оказался в отведенном ему помещении. «Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах были ничем не заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала большая куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Вблизи нар стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал… а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре» (Лука Войно-Ясенецкий, 2013, 65).
23 апреля 1930 г. епископ был вторично арестован и отправлен в ссылку в Котлас. «По прибытии в Котлас, — вспоминал владыка Лука, — нас поместили за три версты от него, на песчаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название „Мака-риха“, состоявший из двухсот бараков, в которых целыми семьями жили „раскулачен-ные“ крестьяне очень многих русских губерний. Двускатные досчатые крыши бараков начинались прямо от песчаной земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во время дождей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды» (Лука Войно-Ясенецкий, 2013, 90). Перед самым переводом еп. Луки в Котлас в Макарихе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В это страшное время на Макарихе каждый день вырывали большую яму, и в конце дня в ней зарывали около семидесяти трупов (см.: (Лука Вой-но-Ясенецкий, 2013, 91)) .
Помимо ссылки другим видами репрессий в отношении священнослужителей, включая иерархов, было тюремное или лагерное заключение. Так, к 1926 г. в Соловецком лагере особого назначения уже находилось 29 православных иерархов, многие из которых до ареста принимали непосредственное участие в решении важных церковных вопросов [Кашеваров, 2017, 37]. Заключенные епископы и священники жили отдельно. В основном они привлекались к работам в дневную смену в качестве сторожей или каптеров. До 1929 г. духовенству разрешалось ходить в рясах, не стричь волос и иметь в камерах, где они помещались, лампадки и иконы. По замечанию И. М. Зайцева, «духовенство заняло как бы привилегированное положение по отбытию принудительных работ» [Зайцев, 1931, 97].
Если в других лагерях церковные службы всегда находились под полным запретом, любые формы богослужений преследовались, а священнослужители использовались на общих работах, то в Соловецком лагере д ля богослужений была оставлена маленькая кладбищенская церковь прп. Онуфрия, которая была закрыта после того, как в 1931–1932 гг. последние монахи были вывезены с Соловков [Резникова, 1994, 9–10]. По воспоминаниям Седерхольма, «среди священников не наблюдаются случаи смерти от голода или цинги, так как многие из них получают многочисленные посылки от друзей и близких» (Седерхольм, 1934, 291). Очевидно, что в данном случае речь идет о той помощи, что стремилась оказать паства своим оказавшимся в заключении архиереям, которые формально продолжали занимать свои кафедры вплоть до указа митр. Сергия № 549 от 21 октября 1927 г. Оценивая в целом положение духовенства, заключенного на Соловках, можно сделать вывод о том, что оно выпадало из общего ряда порядков, заведенных в карательных учреждениях [Резникова, 1994, 11, 12].
Возвращение епископов в прежние места жизни и деятельности большей частью сопровождалось существенным ухудшением бытовых условий в сравнении с тем временем, когда архиереи пребывали на свободе перед репрессиями. Достаточно еще раз упомянуть, что монастыри, бывшие до революции местами их пребывания, были советской властью упразднены. Например, основным местом пребывания Петергофского епископа Николая (Ярушевича), вернувшегося в Петергоф в марте 1926 г. из трехлетней ссылки в с. Усть-Кулома Коми-Зырянской области, стала комната в коммунальной квартире на втором этаже деревянного дома № 40 по Красному (ныне Санкт-Петербургскому) проспекту. Член приходского совета Петропавловского собора в Петергофе А. И. Бебутова, являвшаяся обладательницей двух комнат в указанном доме, предоставила одну из них в распоряжение еп. Николая. Угловая комната площадью 26 м2 на протяжении 12 лет служила спальней и, по пятницам, — приемной архиерея [Сурков, 2012, 155].
Согласно воспоминаниям церковного историка и публициста А. Э. Краснова-Левитина, путь к храму, где предстояло совершить очередное богослужение, для архиерея зачастую был сопряжен со значительными неудобствами:
«В тесноте переполненных трамваев, с пересадками, чуть не вися на подножках, добирался он до места служения. В лучшем случае удавалось найти извозчика, а еще реже машину. Часто водители, узнав, что надо везти „попа“, отказывались это делать. И несмотря ни на что, он (еп. Николай. — А. К. ) всегда был аккуратен, никогда не опаздывал к богослужению, не раздражался и не сетовал. Остряки говорили: „По этим архиерейским часам можно проверять время“» (Краснов-Левитин, 1977, 83).
Иногда после окончания архиерейского богослужения в храме устраивалось скромное чаепитие. Следует отметить, что подобное мероприятие по тем временам могло представляться роскошью, поскольку с января 1929 г. в стране были введены карточки на хлеб (в конце того же года карточный режим распространился почти на все продуктовые товары, что продолжалось до 1936 г.) [Сурков, 2012, 156].
Епископ Мануил (Лемешевский), который после возвращения из ссылки 25 апреля 1928 г. был назначен в г. Серпухов в качестве викария Московской епархии, в быту довольствовался весьма немногим. «Обстановка его покоев, состоявших из двух небольших комнат, была проста». В приемной висела громадная икона свт. Николая, занимавшая весь передний угол. Круглый стол, кресло, шкаф с книгами составляли всю обстановку приемной — и все это, кроме книг, было не его личное, а данное его почитателями. «В келлии бросалось в глаза обилие икон в переднем правом углу над скромным монашеским ложем» [Иоанн Снычев, 1993, 148].
Индустриализация и коллективизация сопровождались не только закрытием храмов и монастырей, но и новыми репрессивными акциями по отношению к священнослужителям, включая высшую церковную иерархию. Священнослужители, лишенные избирательных прав или ограниченные в отдельных политических и гражданских правах, платили государству с 1930 г. 75% с «нетрудовых доходов», к которым была причислена и плата за отправление культа. Духовенство выселяли из квартир как «лишенцев». Еще с 1928 г. по этой же причине для них была установлена высокая квартплата, которая оставалась такой до 1943 г. включительно [Васильева, 1994, 38].
Весной 1933 г. при проведении в Ленинграде паспортизации населения почти двумстам «неблагонадежным» священнослужителям было отказано. Поэтому город на Неве им пришлось покинуть, в том числе самому Ленинградскому митрополиту Патриаршей Церкви Серафиму (Чичагову) и епископу Сестрорецкому Николаю (Клементьеву), который был освобожден из заключения в 1930 г. Митрополит Серафим, который не устраивал власти своими довольно критичными по отношению к советской действительности политическими взглядами и твердым властным характером в управлении епархией, был вынужден жить в Тихвине, почти в 200 км от Ленинграда. Пребывание митр. Серафима в Тихвине, из которого управлять обширной епархией было весьма затруднительно, послужило причиной отправления его на покой 14 октября 1933 г. Примечательно, что епископу Петергофскому Николаю грозил арест в случае его ночлега в Ленинграде у матери или родственников, поскольку ленинградской прописки он не имел [Сурков, 2012, 202, 203].
20 октября 1933 г. на Ленинградскую кафедру был назначен митрополит Новгородский Алексий (Симанский), бывший одним из деятельных помощников заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского). Сначала митр. Алексий поселился в игуменских покоях Новодевичьего Воскресенского монастыря у Московской заставы, но в 1937 г. был вынужден переехать в Князь-Владимирский собор, где его «резиденцией» стала небольшая комната на колокольне [Одинцов, 2015, 223]. В 1940 г. он поселился на третьем этаже Никольского Морского собора, ставшего кафедральным. Здесь в одной из комнат был устроен его скромный кабинет. Незатейливое хозяйство вела его сестра Анна [Одинцов, 2015, 239].
Особо следует выделить весьма стесненные условия, в которых проходила деятельность иерархов, состоявших в высшем церковном управлении во второй половине 1920-х — 1930-е гг.
В 1924 г. по распоряжению патр. Тихона на ул. Короленко в подмосковной дачной местности в Сокольниках был арендован небольшой двухэтажный деревянный дом для архиереев, которые возвращались из ссылок [Вострышев, 1990, 181]. В это здание патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр после кончины патр. Тихона был вынужден перенести свою резиденцию из Донского монастыря. Здесь же разместились Московский епархиальный совет и епархиальное управление [Любарто-вич, 2003, 7; Дамаскин Орловский, 1993, 2].
Митрополит Нижегородский Сергий после освобождения из заключения во внутренней тюрьме ГПУ в марте 1927 г. получил разрешение жить в Москве и поселился в доме на ул. Короленко. Яркие впечатления об условиях жизни митр. Сергия оставил побывавший в Москве в ноябре 1928 г. в связи с визитом в Московскую Патриархию митрополит Ковенский и Литовский Елевферий (Богоявленский) в своей книге «Неделя в Патриархии», опубликованной в 1933 г. в Париже. Прежде всего владыка Елевферий отметил скромность обихода в келлии хозяина: «Комната в два окна, при самой простой обстановке: при входе направо — кровать, налево — письменный стол, в святом углу — небольшой киот с различными иконами, тут же недалеко от стены стоит скромного размера книжный шкаф, а на противоположной стене висит телефон. На стене у письменного стола — портрет святейшего патриарха Тихона» (Елевферий Богоявленский, 1995, 192).
По наблюдениям владыки Елевферия, комната большего размера являлась одновременно и приемной для посетителей, и залом заседаний Синода: «Небольшая продолговатая комната в четыре окна. В святом углу с теплящейся лампадой висит образ Божией Матери. Вдоль, посреди комнаты, стоит длинный, для двенадцати членов Синода, покрытый зеленым сукном стол, при нем двенадцать стульев, при входе вправо у стены — мягкий диван, влево при двух окнах — два небольших столика со стульями при них. За одним в известные часы принимает управляющий Московской епархией архиепископ Филипп, тут же шкафчик с его делами, а за другим занимается правитель дел Синода епископ Питирим, у которого здесь же своя конторка с синодальными делами. В тех же случаях, когда посетителей принимали члены Синода, они размещались по углам комнаты, где ставились маленькие столики, при каждом ставился также стул. Все так скучено, стеснено, что с трудом, чтобы не обеспокоить заседающих иерархов, невозможно пройти кому-либо из одной комнаты в другую» (Елевферий Богоявленский, 1995, 193).
Хозяйственные обязанности по обеспечению питанием, поддержанию чистоты и надлежащего порядка в доме несли два человека — келейник митр. Сергия иеро-диак. Афанасий и пожилая монахиня одного из Нижегородских женских монастырей (Елевферий Богоявленский, 1995, 193).
Большое неудобство для посетителей Патриархии заключалось в том, что ее здание находилось вдали от центра Москвы, почти в пригороде.
Характерно, что своего транспорта Высшее церковное управление не имело, поэтому для митр. Евлеферия, как для почетного гостя Патриархии, пожелавшего участвовать в богослужении в храме блж. Максима Исповедника, келейник митр. Сергия вызвал такси. Поскольку в Москве конца 1920-х гг. этого вида транспорта было мало и такси приходилось отыскивать с большим трудом, возвращаться по окончании службы иерархам пришлось на трамваях с пересадками. «Трамваи были переполнены народом, так что иногда с трудом приходилось стоять в них, не говоря уже о сиденье» (Елевферий Богоявленский, 1995, 191).
Митрополит Елевферий присутствовал во время наречения иером. Иоанна (Малинина) во епископа, викария Вятской епархии. «Нареченный — сын бедного сельского псаломщика, с академическим образованием, участвовал по призыву в Мировой войне 1914–1918 гг., был в германском плену, где сам испытал все горести его» (Елевферий Богоявленский, 1995, 192). По замечанию митр. Елевферия, «в отличие от прежнего (дореволюционного. — А. К. ) времени, когда среди иерархов были такие, которые искали в епископстве почет и славу и находили их, в новых условиях (советской России. — А. К. ) иерархи призываются к великому подвигу — быть впереди всех в страде церковной» (Елевферий Богоявленский, 1995, 192).
К началу 1930-х гг. у учреждений Московской Патриархии, образованных при заместителе патриаршего местоблюстителя митрополите Нижегородском Сергии, появился новый адрес: Бауманский пер., д. 6. (Журнал Московской Патриархии в 1931– 1935 годы, 2001, 13). Это был построенный в 1913 г. и стоявший по соседству с заводом проволочных изделий одноэтажный деревянный дом с мезонином. В тесном помещении (полезная площадь первого этажа была всего 70 м), разделенном на две изолированные квартиры, не только жил владыка Сергий, но и располагались органы управления Церковью и Московской епархией. Староста храма свт. Николая на Берсе-невке В. Н. Кузнецов, который часто бывал в этом митрополичьем доме, вспоминал: «Архиерейский дом стоял в глубине участка и напоминал скорее не городское, а неказистое деревенское жилое строение. Посетитель поднимался по лестницу высокого крыльца и, открыв входную дверь, попадал в прихожую, к которой справа примыкала кухня-трапезная. Обстановка в этой части дома была самая простая, вдоль стен стояли лавки. Дверь налево вела в кабинет владыки»» (Краснов-Левитин, 1977, 81). «На Бауманском при митрополите Сергии жил он сам, епископ Питирим, келейник, несколько монахинь, ежедневно принимали как сам митрополит Сергий, так и викарии Московские; останавливались приезжие архиереи, и я в их числе…» — вспоминал святейший патриарх Алексий I в 1948 г. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 34. Л. 152). Тесное помещение митрополичьего дома не позволяло устроить в нем ни домовую церковь, ни моленную келлию. Поэтому в качестве крестовой патриаршей церкви был избран располагавшийся неподалеку храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, в котором вплоть до его закрытия в 1934 г. митр. Сергий молился и служил, а также совершал монашеские постриги и архиерейские хиротонии [Паламарчук, 1995, 222–223].
К 1939 г. вся организационная структура Церкви была практически разрушена, а патриарший местоблюститель — блаженнейший митр. Сергий — постоянно ожидал ареста. Тогда же московские власти отобрали одну из двух квартир митрополичьей резиденции в Бауманском пер. [Любартович, 2003, 79]. В те годы епископы, как и многие рядовые священнослужители, постоянно держали дома наготове узелок с бельем вследствие угрозы ареста (Краснов-Левитин, 1977, 269).
Бытовые условия и положение епископата в обществе стали в некоторой степени меняться в лучшую сторону лишь после нормализации государственно-церковных отношений, наступившей, как известно, в годы Великой Отечественной войны. Например , 5 сентября 1943 г. резиденция Московской Патриархии была переведена из деревянного дома в Бауманском пер. в новое здание в Чистом пер., в котором с 1922 г. до конца июня 1941 г. жил глава дипломатической миссии Германии в Советском Союзе [Любартович, 2003, 80, 90]. Государство не только публично признало иерархию и иерархический строй Русской Церкви, но и наиболее видные ее архиереи в пропагандистских целях были допущены к участию в деятельности различных представительных советских и международных обществ (Славянского комитета СССР, Всеславянского комитета, Постоянного комитета защиты мира и др.) и особенно широко представлены были в советских и международных миротворческих форумах, конгрессах и конференциях.
Список литературы Общественные и бытовые условия епископского служения в первые два десятилетия советской власти
- Архивы Кремля (1997) — Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. М.: РОС-СПЭН, 1997. Кн. 1. 600 с.
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Оп. 2. Д. 34. Л. 152.
- Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы (2001) — Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы. М.: Издат. Совет РПЦ, 2001. 272 с.
- Елевферий Богоявленский (1995) — Елевферий (Богоявленский), митр. Неделя в патриархии // Из истории христианской церкви на родине и за рубежом. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1995. C. 174-295.
- Известия ВЦИК. 1922. 12 августа.
- История советской конституции (1957) — История советской конституции: Сборник документов 1917-1957. М: АН СССР, 1957. 551 с.
- Краснов-Левитин (1977) — Краснов-Левитин А. Лихие годы, 1925-1941. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1977. 460 с.
- Левитин, Шавров (1996) — Левитин А, Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. 670 с.
- РГИА — Российский государственный архив. Ф.831. Оп.1. Д.21. Л.163, 164, 164об.; Д. 25. Л. 1, 4, 4 об.
- Седерхольм (1934) — Седерхольм Б. В разбойном стане. Три года в стране концессий и ЧЕКИ. Рига: STAR, 1934. 307 с.
- Чельцов (1994) — Чельцов М, прот. В чем причина церковной разрухи 1920-1930 гг. // Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб.: Феникс, 1994. Т. 17. С. 418-468.
- Шавельский (1996) — Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1996. Т. 2. 412 с.
- Губонин, Мазырин (2012) — Губонин М.Е., Мазырин А., свящ. Кифа — Патриарший местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1862-1937). М.: ПСТГУ, 2012. 952 с.
- Васильева (1994) — Васильева О. Ю. Русская православная церковь в 1917-1943 гг. // Вопросы истории. 1994. № 4. С. 34-43.
- Вострышев (1990) — Вострышев М. Божий избранник: Крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. М.: Современник, 1990. 191 с.
- Дамаскин Орловский (1993) — Дамаскин (Орловский), иером. «Я теперь не умру...» // Журнал Московской патриархии. 1993. № 1. С. 20-24.
- Зайцев (1931) — Зайцев И.М. Соловки. Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти. Шанхай: Слово, 1931. 172 с.
- Зеленогорский (1991) — Зеленогорский М.Л. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского). М.: Тегга, 1991. 334 с.
- Зыбковец (1975) — Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в советской Росии (1917-1921). М.: Наука, 1975. 205 с.
- Иоанн Снычев (1993) — Иоанн (Снычев), митр. Митрополит Мануил (Лемешевский). Биографический очерк. СПб.: Тип. Ивана Федорова, 1993. 302 с.
- Кашеваров (2017) — Кашеваров А.Н. Высшее православное духовенство на Соловках во второй половине 1920-х годов // Арктика: история и современность. Труды Второй международной научной конференции. 19-20 апреля 2017 г. СПб.: Медиапапир, 2017. Ч. 1. С. 35-44.
- Кашеваров (2005) — Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и Советского государство (1917-1922). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005. 439 с.
- Лавров, Лобанов и др. (2008) — Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А. В. Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху. М.: Русская панорама, 2008. 376 с.
- Лобанов (2006) — Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925). М.: Русская панорама, 2008. 352 с.
- Мазырин (2006) — Мазырин А, свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-1930-х годах. М.: ПСТГУ, 2006. 441 с.
- Лука Войно-Ясенецкий (2013) — Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. Киев: Св.-Троицкий Ионинский монастырь, 2013. 240 с.
- Любартович (2003) — Любартович В.А. Московские патриаршие и митрополичьи резиденции в 1917-1945 годах // Журнал Московской Патриархии. 2003. № 7. С. 62-94.
- Одинцов (2002) — Одинцов М.И. Высокопреосвященнейший Арсений (Стадницкий), митрополит Ташкентский и Туркестанский (1862-1936). Биографический очерк // Церковно-исторический вестник. 2002. № 9. C. 62-117.
- Одинцов (2015) — Одинцов М. И. Патриарх Победы. Жизнь и церковное служение патриарха московского и всея Руси Алексия (Симанского). М.: РОССПЭН, 2015. 487 с.
- Одинцов (2013) — Одинцов М.И. Патриарх Сергий. М.: Молодая гвардия, 2013. 400 с.
- Паламарчук (1995) — Паламарчук П.Г. Сорок сороков. М.: Книга и бизнес, 1995. Т. 3. 586 с.
- Поповский (2002) — Поповский М.А. Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб.: Сатисъ; Держава, 2002. 509 с.
- Резникова (1994) — Резникова И. Православие на Соловках. СПб.: Мемориал, 1994. 208.
- Сафонов Д. (2019) — Сафонов Д., свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время. М.: Издательский дом «Познание», 2019. 608 с.
- Сорокин В. (2005) — Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита Григория (Чукова). СПб.: Князь-Владимирский собор, 2005. 734 с.
- Сурков (2012) — Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич). М.: Общество любителей церковной истории, 2012. 647 с.
- Фомин (2003) — Фомин С.В. Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский). М.: Правило веры, 2003. 1007 с.
- Цыпин (2006) — Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005). М.: Издание Сретенского монастыря, 2006. 816 с.
- Шкаровский (1995) — Шкаровский М. В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат: 1917-1945. СПб.: Лики России, 1995. 206 с.