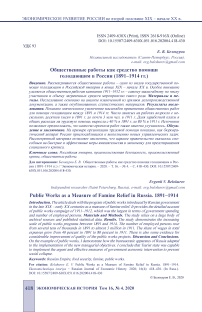Общественные работы как средство помощи голодающим в России (1891-1914 гг.)
Автор: Белокуров Евгений Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России во второй половине XIX - начале XX века
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Рассматриваются общественные работы - один из видов государственной помощи голодающим в Российской империи в конце XIX - начале XX в. Особое внимание уделяется общественным работам кампании 1911-1912 гг. - самому масштабному по числу участников и объему затраченных средств мероприятию такого рода. Материалы и методы. Исследование основано на анализе извлеченной из архивов делопроизводственной документации, а также опубликованных статистических материалов. Результаты исследования. Показано значительное увеличение масштабов применения общественных работ для помощи голодающим между 1891 и 1914 гг. Число занятых на работах возросло с нескольких десятков тысяч в 1891 г. до почти 3 млн чел. в 1911 г. Доля заработной платы в общих расходах на трудовую помощь выросла с 40 % в 1891 г. до 80 % в 1911 г. Источники позволяют предположить, что качество проектов работ также заметно улучшилось. Обсуждение и заключение. На примере организации трудовой помощи показано, как бюрократический аппарат России приспосабливался к выполнению новых управленческих задач. Рассмотренный материал позволяет заключить, что царское правительство оказалось способным на быстрые и эффективные меры вмешательства в экономику для предотвращения социального кризиса.
Российская империя, продовольственная безопасность, продовольственный кризис, общественные работы
Короткий адрес: https://sciup.org/147218565
IDR: 147218565 | УДК: 93 | DOI: 10.15507/2409-630X.051.016.202004.418-430
Текст научной статьи Общественные работы как средство помощи голодающим в России (1891-1914 гг.)
Общественные работы (строительство шоссе, железнодорожных линий, мостов, школьных и больничных зданий и т. д.) в XIX и XX вв. стали одним из самых популярных способов борьбы с безработицей в странах Европы и Северной Америки. В глазах государства и благотворительных организаций трудовая помощь имела массу достоинств: нуждающиеся получали заработок, общество – полезные сооружения и – что особенно волновало политиков и общественных деятелей на рубеже веков, при этом не уничтожались стимулы к труду, как это неизбежно происходило бы при простой раздаче пособий. Особенно широкое распространение общественные работы на Западе получили в годы Великой депрессии, став одним из действенных способов поддержки сокращающегося совокупного спроса в рамках кейнсианской экономической политики.
С конца XIX в. общественные работы широко использовались и в Российской империи. Однако роль периодических экономических кризисов, вызывавших рост безработицы, в России, преимущественно сельской стране, играли неурожаи. Поэтому главными получателями государственной помощи были крестьяне. В первой половине XIX в. было разработано сложное законодательство о «народном продоволь-ствии»1, призванное облегчить положение пострадавших от неурожая хозяйств, и одной из мер помощи стало устройство общественных работ.
Опыт организации трудовой помощи в дореволюционной России представляет интерес по нескольким причинам. В современной историографии Российская империя описывается как «слабое» или «не-доуправляемое» государство: бюрократия была слишком малочисленной (число чиновников на душу населения было тогда в несколько раз меньше, чем в Западной Европе), а доля государственных расходов в экономике по современным меркам – незначительной [1, с. 83–114; 9, с. 422–489; о величине государственных расходов см.: 11, p. 77]. Могло ли такое государство успешно противостоять экономическим кризисам, требующим проведения решительной и масштабной интервенционистской политики? Было ли оно способно предоставить гражданам хотя бы минимальные гарантии занятости и эффективно мобилизовать ресурсы в случае чрезвычайной ситуации? Опыт устройства общественных работ в начале XX в. позволяет оценить потенциал государственного вмешательства в экономику, а также эффективность работы дореволюционного бюрократического аппарата в целом.
Историография
Организация трудовой помощи в дореволюционной России – сравнительно малоизученная тема. За исключением ряда работ дореволюционных авторов [2; 4; 6] она практически не исследовалась. Советская историография мало интересовалась вопросами помощи голодающим до революции, вслед за В. И. Лениным полагая, что эта помощь была крайне недостаточной [9, с. 59]2.
Более взвешенно проблема освещалась в западной литературе. Так, Р. Роббинс, исследуя голод 1891–1892 гг., пришел к выводу, что действия государства были довольно эффективными и помогли предотвратить наступление катастрофы. Однако организованные правительством общественные работы он, как и большинство дореволюционных авторов, оценивал весьма критически [12, p. 110–123].
Современные российские авторы разделяют вывод о сравнительно эффективной организации продовольственного дела в предреволюционной России [3, с. 254–295;
5, с. 86–107]. Однако работ, посвященных детальному рассмотрению правительственной политики в этом вопросе, в том числе непосредственно трудовой помощи, все еще мало [10, с. 103–109]. Наша статья пытается частично восполнить данный пробел.
Общественные работы в системе помощи голодающим, 1891–1908 гг.
Продовольственный устав 1834 г., действовавший до 1917 г., предусматривал только один вид помощи при неурожаях – выдачу беспроцентных зерновых ссуд на продовольствие и на посев3. В конце XVIII – первой половине XIX в. государство требовало от крестьян и помещиков создавать специальные хранилища зерна на случай голода – сельские запасные магазины. После отмены крепостного права эти магазины перешли в ведение сельских обществ. Если зерна из магазинов не хватало, предусматривались специальные денежные фонды – продовольственные капиталы: губернские (с 1834 г.) и общий по империи (с 1866 г.).
Ресурсы запасных магазинов и продовольственных капиталов были довольно скромными, и в случае особенно сильных неурожаев их могло не хватить. Именно это и произошло в 1891 г., когда казна была вынуждена профинансировать общеимперский капитал на 146,5 млн руб.4 Крупный неурожай вывел систему из равновесия: поскольку ссуды получили самые бедные крестьяне, и в урожайные годы не имевшие излишков хлеба, они не могли возвратить долг. Стремясь облегчить положение крестьян, в 1893–1894 гг. власти списали значительную часть задолженности, что вызвало завышенные ожидания: на ссуды стали смотреть как на безвозвратные посо- бия и поэтому требовали их для всех, а не только для голодающих [4, с. 111]. В силу последнего обстоятельства после голода 1891–1892 г. общеимперский капитал стал получать дотации из бюджета регулярно. С 1891 по 1912 г. казна потратила на продовольственное дело огромную сумму – более 600 млн руб., причем крестьяне-должники возвратили только пятую ее часть5.
Власти, разумеется, искали способы сократить расходы на продовольственное дело. С одной стороны, Министерство внутренних дел стремилось ужесточить взыскание долгов и условия выдачи ссуд, а с другой – шире использовать виды помощи, не вызывающие роста задолженности. Именно здесь вспомнили о полузабытых опытах организации общественных работ в XVIII–XIX и даже в начале XVII в. (разумеется, в очень скромных масштабах) [4, с. 10, 27, 56–58]. После голода 1891–1892 гг., по мысли министерства, дело должно было выйти на новый уровень. Помимо финансовых, имелась и «моральная» причина предпочесть общественные работы зерновым ссудам – боязнь распространения социального иждивенчества. Как отмечало в 1901 г. Совещание по продовольственному делу при Министерстве внутренних дел, работы не развивали в населении «вредную и опасную мысль о постоянной и… обязательной поддержке их хозяйства за счет казны»6.
Однако констатировать преимущества трудовой помощи на бумаге оказалось намного легче, чем воспользоваться ими на практике. Первый опыт широкой организации общественных работ во время голода 1891–1892 гг., по всеобщему признанию, постигла неудача. Многие проекты, организованные на коммерческих началах, оказались убыточными для казны. Что еще хуже, из выделенных на трудовую помощь 14 млн руб. лишь 39 % были израсходованы на заработную плату. К работам удалось привлечь всего 88,1 тыс. чел. [10, с. 109] (для сравнения: продовольственные ссуды получило не менее 11,9 млн чел.7). Таким образом, расход казны на помощь одному человеку за счет общественных работ (считая самого работника и пятерых членов его семьи) составил почти 26,5 руб., из которых свыше 60 % досталось разного рода посредникам. В то же время в среднем на одного голодающего казна потратила лишь 12,3 руб.8 Следовательно, использование трудовой помощи в 1891–1892 гг. не сократило расходы казны, а, наоборот, их увеличило.
Одной из главных причин высоких накладных расходов было то, что правительство поручило исполнение работ вновь созданному агентству (Главному управлению общественными работами в местностях, пострадавших от неурожая), не имевшему даже заранее подготовленного плана: разработка некоторых проектов длилась вплоть до лета 1892 г. К тому же, возглавлявший управление генерал М. Н. Анненков вел дело крайне нерационально. Например, крупный проект прокладки шоссе Новороссийск – Сухум стоимостью в 3,5 млн руб., к которому планировалось привлечь стекавшихся в поисках работы на юг крестьян из голодающих губерний, закончился провалом. Шоссе так и не было окончено, а работа досталась далеко не всем, кто на нее записался. Часть крестьян были вынуждены распродавать все вплоть до носильного имущества, чтобы прокормиться, ожидая своей очереди выходить на работу [10, с. 107].
Работы по заготовке древесины, поставленные на коммерческую основу, также оказались неудачными. Характерный пример привел А. С. Ермолов. Получив для разработки ценные дубовые леса в Казанской губернии, Анненков заключил контракт с французскими фирмами на поставку клепки для винных бочонков. Однако среди местного населения не нашлось ремесленников, способных в достаточном количестве изготовить эти изделия, и мастеров пришлось выписывать из урожайных губерний. Более того, древесина оказалась непригодной для изготовления клепки требуемого качества. Поэтому Анненков уговорил казну, во избежание уплаты неустойки, выделить лесные площади с древесиной должного качества в Виленской и Минской губерниях, где неурожая не было. Однако местные жители, как и казанцы, не владели мастерством изготовления злополучной клепки. В итоге пришлось выписывать рабочих из-за границы – и все это на деньги, выделенные для помощи голодающим [4, с. 126–128].
Общественные работы не достигли ни одной из задуманных целей: не снизили расходы казны, не принесли коммерческой выгоды и даже не создали полезной инфраструктуры. А. С. Ермолов вспоминал: «Мне лично пришлось летом 1893 г. осмотреть анненковские прудовые работы в южной части Тамбовской губернии, и уже тогда многие из них были почти совсем уничтожены, а еще через несколько лет от них не осталось и следа. То же было и в губерниях Орловской, Воронежской, Тульской» [4, с. 121]. «Анненковские» работы на долгие годы стали синонимом неразберихи и бесхозяйственности, породив в общественной и земской среде «враждебное отношение к упомянутому виду помощи». Официальным признанием неудачи стало расследование в отношении Анненкова, отделавшегося, впрочем, лишь выговором «без опубликования»9.
Неудачный опыт «анненковских» работ выявил наиболее заметные проблемы трудовой помощи: незнакомство организаторов с местными условиями, тягу к крупным проектам и стремление сделать работы коммерчески выгодными. Однако власти извлекли из опыта кампании 1891–1892 гг. и важные уроки. Во-первых, к организации работ стали привлекаться земства, лучше, нежели петербургское начальство, знакомые с местными условиями, а также созданное в 1895 г. Попечительство о домах трудолюбия и работных домах (в отличие от анненковского управления это была постоянно действующая организация)10. Именно земства и попечительство играли главную роль в организации трудовой помощи после 1892 г. Так, после следующего крупного неурожая в 1906 г. правительство отпустило на общественные работы 13 млн руб., из которых 6,8 млн получили земства и 1,1 млн – попечительство [4, с. 435].
Во-вторых, изменилась и модель организации помощи: земцы и чиновники стали осторожнее относиться к крупным проектам и отдавать предпочтение мелким местным работам. Например, в инструкциях своим уполномоченным попечительство предписывало «по возможности избегать крупных сооружений… и останавливаться преимущественно на более мелких районах или вблизи оных, соответствующих занятиям и привычкам местного населения и не требующих значительного применения технических знаний и крупных расходов на приобретение материала»11.
Эти нововведения принесли свои плоды. Рассмотрим, как увеличивался масштаб применения трудовой помощи на примере общественных работ, организованных попечительством (табл. 1).
Статистика показывает, что, начав с трех губерний в 1898–1899 гг., Попечительство к 1906–1907 гг. расширило географию операций до 13 губерний. Число участников работ с нескольких тысяч увеличилось до нескольких сот тысяч. Если предположить, что на каждого из рабочих приходилось по два иждивенца (соотношение, выведенное для продовольственной кампании 1911– 1912 гг.; см. ниже), то окажется, что только попечительство ежегодно обеспечивало доход примерно 600–800 тыс. чел. Однако размер заработка был очень небольшим – 5,6 руб. на человека, т. е. порядка 2 руб. на нуждающегося. Поэтому работы попечительства могли иметь только вспомогательное значение, не будучи способны полностью заменить собой другие виды помощи.
Помимо попечительства, трудовую помощь в 1905–1907 гг. оказывали и другие организации. Главное управление наняло 187 тыс. чел. землеустройства и земледелия (ГУЗЗ). Свои работы организовывали земства, Министерство путей сообщения и другие правительственные агентства12. Общее число лиц, занятых на общественных работах в 1905–1907 гг., по-видимому, составляло несколько сот тысяч человек каждый год. Таким образом, к 1905–1907 гг. масштабы применения трудовой помощи заметно увеличились, но расходы государства при этом уменьшились с 14 млн руб. в 1891–1892 гг. до 13 млн в 1906–1907 гг. Такой эффект стал возможен за счет замет-
Таблица 1
Общественные работы Попечительства о трудовой помощи, 1898–1907 гг. *
Table 1
Public works organized by Committee of Labour Relief, 1898–1907
|
Кампания / Relief campaign |
Губернии и области, где проводились работы / Regions where public works were introduced |
Число участвовавших в работах, чел. / Number of employed persons |
Средний заработок на одного участника, руб. / Wage per employed person, rubles |
|
1898–1899 |
Вятская, Казанская, Симбирская |
7 703 |
8,13 |
|
1900–1901 |
Бессарабская, Томская, Тобольская |
20 693 |
10,10 |
|
1901–1902 |
Акмолинская, Енисейская, Томская, Тобольская |
56 433 |
3,60 |
|
1905–1906 |
Казанская, Орловская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская |
269 125 |
5,57 |
|
1906–1907 |
Воронежская, Казанская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, Тульская, Тургайская, Уфимская |
190 980 |
5,64 |
* Составлена по: РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 132. – 1914 г. – Д. 202б. – Л. 373–375.
ного сокращения издержек, вызвавшего повышение доли заработной платы в общих затратах. Управление работами стало менее централизованным, а местные органы, лучше знакомые с реальным положением дел, получили больше свободы. Кроме того, новые работы, за редкими исключениями, не были нацелены на получение прибыли: их задачей было оказание помощи большему числу людей, хотя бы и в ущерб казне. По той же причине работы не требовали высокой квалификации. Опыт показал, что лучше всего для этой цели подходят проекты, связанные с улучшением местной инфраструктуры: дороги, мосты, орошение и т. п., поскольку туда нужно было в большом количестве нанимать землекопов, носильщиков, возчиков и других неквалифицированных работников. Таким образом, были заложены основы для дальнейшего расширения трудовой помощи.
Момент истины: продовольственная кампания 1911–1912 гг.
Вдохновленное успешным опытом общественных работ в 1905–1907 гг., Ми- нистерство внутренних дел собиралось и дальше расширять масштабы применения трудовой помощи. В новом проекте продовольственного устава общественные работы вместе с льготным кредитом и продажей хлеба по удешевленной цене стали одним из главнейших средств помощи пострадавшим от неурожая. Зерновые ссуды отме-нялись13.
В продовольственную кампанию 1908– 1909 гг. Министерство внутренних дел с подачи саратовского губернатора С. С. Татищева решило в виде опыта полностью заменить в Саратовской губернии выдачу продовольственных ссуд общественными работами. Результат сочли весьма обнадеживающим: «Трудовая помощь, несомненно, имела сдерживающее влияние на население в смысле сокращения требований его о помощи, вызвала со стороны Правительства значительно менее затрат по сравнению со ссудной помощью и, главное, оказывалась действительно нуждавшимся, достигая, таким образом, намеченной цели. В результате население шести уездов Саратовской губернии пережило неурожайный 1908 год без задолженности и получило еще крупные экономические ценности в виде законченных сооружений»14. В работах приняло участие более 112 тыс. чел., каждый из которых заработал в среднем по 10 руб. 65 коп.15 В меньшем масштабе работы проводились в Воронежской, Пензенской и Уфимской губерниях.
В последующих продовольственных кампаниях саратовский опыт был взят за основу. Случай проверить эффективность трудовой помощи во всероссийском масштабе представился в 1911 г., когда неурожай охватил Поволжье, Приуралье, Западную Сибирь и Северный Казахстан. Правительственная помощь потребовалась в 25 губерниях и областях16. Уже 14 июля Совет Министров определил, что главной мерой помощи пострадавшим будут общественные работы. Кроме того, планировалось организовать продажу хлеба по заготовительной цене, а для детей, больных и не способных работать устроить за счет государства бесплатные столовые. Выдача же продовольственных ссуд полагалась в самых исключительных случаях17.
Указания МВД относительно организации трудовой помощи носили самый общий характер. Во-первых, работы должны быть достаточно простыми и не требовать специальных навыков, чтобы в них могло принять участие как можно больше людей. Во-вторых, административные расходы и расходы на материал совокупно не должны превышать 20 % от стоимости работ. Кроме того, работы следовало устраивать как можно ближе к месту жительства рабочих.
Наконец, нельзя было нанимать заведомо зажиточных крестьян18.
Общий объем государственных субсидий на организацию работ составил 45,6 млн руб., из которых 20 млн получили земства, 9,5 млн – крестьянские учреждения и 9,2 млн – Попечительство о трудовой помощи. Кроме того, субсидии получили ГУЗЗ, городские управления и Крестьянский поземельный банк19. Организовывались работы четырех типов:
-
1) дорожные (устройство и исправление дорог; устройство мостов, дамб, съездов и спусков, подъездов и переездов; срезка гор, рытье канав, засыпка оврагов и топких мест и т. п.);
-
2) гидротехнические (устройство озер, прудов и других водоемов; плотин, дамб, колодцев, котлованов и копаней, запруд; орошение и т. п.);
-
3) хозяйственные (заготовка дров, строительного материала, подвозка материалов и т. п.);
-
4) «защитного типа» (укрепление и облесение песков, укрепление оврагов)20.
Таким образом, чиновники и земцы на местах пользовались значительной свободой в выборе формы работ. Однако быстро проявились и слабые места организации. Уфимский губернатор П. П. Башилов жаловался, что распоряжение приступить к общественным работам вышло в конце августа 1911 г. «совершенно неожиданно» для местных властей21. Поэтому заранее подготовленных планов, как и в 1891–1892 гг., не оказалось нигде, кроме Казанской, Саратовской, части Уфимской губернии и переселенческого района Тур-гайской области22.
Во-вторых, сказался недостаток подготовленного технического персонала. На более чем 21 тыс. проектов приходилось всего 95 инженеров, 130 гидротехников, 766 техников, 154 лесовода, 3 807 десятников и старших рабочих, 109 заведующих работами, 27 саперных офицеров и 50 саперных унтер-офицеров23. Этого было явно недостаточно. Так, Попечительство о трудовой помощи в начале кампании было вынуждено набирать техников по объявлениям в газетах, из-за чего на работу попадали лица без образования и «искатели приключений» 24. Недостаток техников и десятников, непосредственно надзирающих за работами (инженеры лишь составляли планы), тормозил дело. Так, первые жалобы на нехватку техников поступили из Астраханской губернии еще в сентябре 1911 г.25 Однако через месяц, 18 октября, астраханский губернатор И. Н. Соколовский сообщал: «Из 19 техников, коих я просил командировать в мое распоряжение, я по настоящее число получил лишь 5, что почти не меняет условий и не дает возможности поставить дело на прочное основание»26. Но и за следующие две недели, к 31 октября, в губернию прибыли только четыре техника. Тогда Соколовский попросил прислать в качестве начальников работ и техников саперных офицеров и унтер-офицеров27. Когда Военное министерство согласилось командировать саперов, общественные работы в Астраханской губернии уже прекратились из-за наступления зимы.
Малочисленность квалифицированных инженеров и техников привела к тому, что каждому из них приходилось руководить сразу несколькими проектами28. Так, от- меченный премией за деятельное участие в работах в Уральской области гидротехник К. Ганн с августа 1911 до мая 1912 г. «исполнил» 11 земляных плотин и две глубокие буровые скважины в семи поселках четырех волостей (линия объезда – 280 верст). Линия объезда гидротехника П. Солодухина была еще больше – 550 верст; он «исполнил» 42 работы29. Отсутствие надзора в некоторых местностях приводило к коррупции (на работы крестьян записывали по знакомству или за определенную плату)30.
Еще одним недостатком трудовой помощи была невозможность продолжать работы в холодное время года. К зиме энергично начатая кампания постепенно сошла на нет. Это можно проследить по динамике заработной платы: за осень 1911 г. рабочие получили 40,4 % от общего объема всей заработной платы, а за декабрь – март – только 20,5 %. С наступлением тепла работы возобновились: за апрель – июль 1912 г. было выдано 31,2 % всей платы, за август – ноябрь – 7,8 %31. Одной из важных причин замедления темпов работ зимой было отсутствие у многих нуждающихся теплой одежды.
Мнения о том, как следует помогать населению до наступления весны, разделились. В октябре представители Министерства внутренних дел, оказавшиеся в меньшинстве в Совещании по продовольственному делу, настаивали на продолжении текущего курса, упирая на то, что «изменение руководящих принципов продовольственной кампании во время ее хода неминуемо повлечет за собою расстройство налаживающихся общественных работ». Взамен они предлагали расширить благотворительную помощь. Представители
Министерства финансов, Государственного контроля, ГУЗЗ и Красного Креста предлагали следовать обычным порядком и начать выдачу продовольственных и семенных ссуд. Они предостерегали, что расширение благотворительной помощи «развратит» население в еще большей степени, чем ссуды, «вредное значение» которых еще может быть ослаблено своевременным их взысканием. Именно их мнение и утвердил Совет министров, который после гибели Столыпина возглавил министр финансов В. Н. Коковцов32. В результате в кампанию 1911–1912 гг. без ссудной продовольственной помощи на средства общеимперского продовольственного капитала обошлись лишь три губернии – Саратовская, Вятская и Казанская33. Там, где начиналась выдача ссуд, население переставало участвовать в общественных работах34.
Значительные сложности, возникшие во время кампании 1911–1912 гг., уменьшили энтузиазм МВД. В очередной редакции проекта продовольственного устава от декабря 1914 г. в качестве основной меры помощи вновь вводились продовольственные и семенные ссуды, а трудовая помощь была оставлена только в качестве дополнительной меры35. Заведующий продовольственным делом в империи Н. П. Муратов в 1915 г. оценивал перспективы работ скептически: «Теоретически все выглядит очень хорошо и даже глубоко нравственно, а практически общественные работы стоят больших сумм, расходование их в высшей степени беспорядочно, отчетность по ним представляет громадные затруднения, не- добросовестность ближайших исполнителей прогрессирует, судьба самих сооружений совершенно не обеспечена»36.
Насколько справедлива подобная однозначно негативная оценка? Попытаемся оценить эффективность трудовой помощи по трем критериям: число людей, получивших работу; величина заработка; качество выполненной работы. Общее число принявших участие в общественных работах составило 3,2 млн (табл. 2), что было на порядок больше, чем в любую из предыдущих продовольственных кампаний. Рост эффективности по этому критерию был несомненным.
Из затраченных на трудовую помощь 42,1 млн руб. 35,1 млн руб., (83 %), пошло на заработную плату (в 1891–1892 гг. – только 39 %)37. Таким образом, эффективность расходования государственных средств увеличилась. Средний заработок на одного человека составил 11 руб., т. е. приблизительно половину месячного заработка промышленного рабочего38 (в пересчете на суточную плата отличалась едва ли заметно: в среднем один занятый на общественных работах отработал 14 денщин, т. е. вряд ли больше половины месяца39). Однако, по расчетам МВД, на одного рабочего приходилось еще двое нуждающихся, что сокращало общий заработок в пересчете на одного человека с 11 до 4 руб. В зависимости от местных цен на эту сумму можно было приобрести от 1 (в Псковской) до 8 (в Оренбургской губернии) пудов хлеба; в среднем 3,5 пуда (как мы уже упоминали, взрослому человеку для питания достаточно 1 пуда хлеба в месяц)40.
Таблица 2
Общественные работы в 1911–1912 гг.*
Table 2
Public works, 1911–1912
|
Губерния / Province |
Общее число работавших, чел. / Number of employed persons |
Общее число нуждающихся в помощи, чел. / Number of persons in need |
Доля лиц, принимавших участие в работах, % / Share of employed persons, % |
Общий заработок, руб. / Total wages, rubles |
Заработок в среднем на одного работавшего, руб. / Wage per employed person, rubles |
Заработок в среднем на одного нуждающегося, руб. / Average wage per person in need, rubles |
|
Акмолинская |
122 174 |
206 295 |
59,2 |
1 395 003 |
11,42 |
6,76 |
|
Астраханская |
40 380 |
175 114 |
23,1 |
533 714 |
13,22 |
3,05 |
|
Вятская |
54 813 |
321 122 |
17,1 |
390 184 |
7,12 |
1,22 |
|
Казанская |
292 760 |
1 473 347 |
19,9 |
7 472 668 |
25,52 |
5,07 |
|
Нижегородская |
Нет сведений |
– |
22 139 |
– |
– |
|
|
Оренбургская |
207 535 |
356 177 |
58,3 |
3 576 570 |
17,23 |
10,04 |
|
Пермская |
57 271 |
195 702 |
29,3 |
635 440 |
11,10 |
3,25 |
|
Приморская |
3 612 |
14 390 |
25,1 |
97 455 |
26,99 |
6,77 |
|
Псковская |
9 000 |
73 838 |
12,2 |
95 786 |
10,64 |
1,30 |
|
Самарская |
796 035 |
1 673 103 |
47,6 |
4 378 660 |
5,50 |
2,62 |
|
Саратовская |
647 960 |
1 296 523 |
50,0 |
5 717 68 |
8,82 |
4,41 |
|
Симбирская |
339 512 |
654 607 |
51,9 |
3 349 134 |
9,86 |
5,12 |
|
Ставропольская |
11 055 |
40 683 |
51,9 |
122 734 |
11,10 |
3,02 |
|
Тобольская |
275 114 |
1 084 353 |
25,4 |
3 217 935 |
11,70 |
2,97 |
|
Томская |
24 853 |
91 317 |
27,2 |
281 290 |
11,32 |
3,08 |
|
Тургайская |
98 999 |
296 094 |
33,4 |
1 668 346 |
16,85 |
5,64 |
|
Уральская |
37 323 |
65 089 |
57,4 |
445 801 |
11,95 |
6,85 |
|
Уфимская |
181 620 |
596 878 |
30,4 |
1 720 967 |
9,48 |
2,88 |
|
Итого |
3 200 016 |
8 614 632 |
37,1 |
35 120 875 |
10,98 |
4,08 |
* Составлена по: Отчет по продовольственной кампании 1911–1912 гг. – Т. 2. – С. 109.
Однако доход от общественных работ обеспечил только 60 % общей потребности в продовольственном хлебе, составлявший, по официальной оценке, 49,5 млн пудов, или 5,8 пудов на каждого нуждающегося (при цене хлеба 1,2 руб. за 1 пуд)41. Оставшаяся потребность (в том числе в семенах) была покрыта ссудами из хлебных магази- нов и продовольственных капиталов. При этом расходы на общественные работы составили только 26,5 % от всех расходов по время кампании 1911–1912 гг.42 Следовательно, в отличие от кампании 1891– 1892 гг., общественные работы в 1911– 1912 гг. оказались дешевле для казны, нежели другие виды помощи.
Таблица 3
Состояние объектов, сооруженных в ходе общественных работ 1911–1912 гг. в Саратовской губернии, на лето 1914 г.*
Table 3
Status of infrastructure projects built in Saratov province in 1911–1912 as of the summer of 1914
|
Уезд |
Всего произведено работ / Total number of works |
Осмотрено работ / Number of audited projects |
Требуют доделки, % / Need rework |
Требуют текущего мелкого ремонта, % / Need minor repairs |
Требуют капитального ремонта, % / Need major repairs |
Не окончены или разрушены, % / Not finished or destroyed, % |
«Не достигли цели», % / “Unsuccessful”, % |
В исправности, % / In good condition. % |
|
Вольский |
297,0 |
287,0 |
12,6 |
7,0 |
1,8 |
2,8 |
9,0 |
66,9 |
|
Сердобский |
143,0 |
135,0 |
4,5 |
6,6 |
2,3 |
0,8 |
6,6 |
79,3 |
|
Кузнецкий |
151,0 |
80,0 |
12,3 |
26,0 |
– |
5,0 |
3,7 |
52,8 |
|
Хвалынский |
234,0 |
190,0 |
10,5 |
23,3 |
2,1 |
1,6 |
4,7 |
57,8 |
* Составлена по: РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 132. – 1914 г. – Д. 65. – Л. 180 об.–181, 206 об.–207.
Сложнее дело обстояло с вопросом о качестве сооружений, созданных в ходе работ. Эта сторона организации работ наиболее часто подвергалась критике современников43. Хотя мы располагаем только отрывочными сведениями, можно с уверенностью утверждать, что низкое качество работы не было повсеместным явлением. Так, летом 1914 г. инспектор при Комитете Попечительства о трудовой помощи П. М. Бобриков осмотрел объекты, сооруженные Попечительством общественных работ в 1911–1912 гг. в Саратовской губернии (по числу лиц, участвовавших в работах, она занимала второе место после Самарской). Материалы ревизии показали, что во всех четырех уездах находится в исправном состоянии от 53 до 79 % осмотренных объектов, а из оставшихся от 7 до 26 % требуют лишь мелкого ремонта (табл. 3). Учитывая спешность составления планов и нехватку техников, такой результат можно охарактеризовать если не как успешный, то, по крайней мере, не провальный.
Причинами разрушения гидротехнических объектов не всегда были дефекты плана или недосмотр техников. Так, в Саратовской губернии «население во многих случаях… крайне небрежно относится к возведенным в их же интересах сооружениях, вскрывая каптажные колодцы, чтобы ближе брать воду, и заваливая водосливы для удобства переезда через них, и не принимает соответствующих мер к надзору за пропуском вешних вод через шлюзы, водосливы и т. д. Из представленных с мест отчетов усматривается, что подготовительные работы по охране, а также и самая охрана сооружений производится сельскими обществами весьма небрежно, а многие полевые плотины вследствие бездорожья оставляются почти без всякого надзора»44. В Камышинском уезде той же губернии, «по свидетельству местных людей, население к большинству возведенных общественными работами сооружений относится совершенно индифферентно; меры к охранению принимает только лишь после воздействия со стороны местной администрации»45.
Таким образом, мы полагаем, что негативная оценка трудовой помощи спра- ведлива лишь отчасти. Статистические данные показывают, что, несмотря на ряд недостатков, организация трудовой помощи по сравнению с 1891–1892 гг. заметно улучшилась. Конечно, как признавал глава Попечительства о трудовой помощи В. Д. Евреинов, общественные работы – не панацея от голода: организовать их можно не везде и не все крестьяне имеют возможность работать, и поэтому следует дополнять работы другими видами помощи46. Тем не менее продовольственная кампания 1911–1912 гг. показала, что государство в случае необходимости способно обеспечить минимальным заработком несколько миллионов человек и тем самым сохранить социальную стабильность. Первая мировая война приостановила развитие проектов общественных работ, и накопленный в предвоенное пятилетие опыт так и не был использован47.
Заключение
В XX в., вместе с появлением новых социальных программ, вмешательство государства в экономику значительно возросло. Одной из таких социальных программ, потребовавшей от бюрократии новых навыков, можно считать и общественные работы в дореволюционной России. Наше исследование показывает, что управленческий аппарат довольно успешно адаптировался к решению новых задач. Несмотря на недостатки, присущие общественным работам как средству борьбы с голодом, мы можем с уверенностью заключить, что опыт их применения в России в начале XX в. был в целом успешен. После неурожая 1911 г. государству удалось успешно организовать трудовую помощь пострадавшему населению и тем самым предотвратить социальный кризис. Возникавшие проблемы были прежде всего связаны не с компетентностью чиновников, а с малочисленностью специалистов (инженеров и техников), вызванной в первую очередь неразвитостью технического образования в России. Тем не менее опыт кампании 1911–1912 гг. показывает, что наладить общественные работы было возможно и в этих условиях. Все это создавало потенциал для дальнейшего расширения трудовой помощи, которая при менее склонном к социальным экспериментам правительстве могла бы сыграть свою роль и в послевоенном восстановлении, и в преодолении Великой депрессии 1930-х гг.
Список литературы Общественные работы как средство помощи голодающим в России (1891-1914 гг.)
- Величенко Ст. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет : антология / сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. - М. : Новое издательство, 2005. -С. 83-114.
- Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет : в 4 т. - СПб. : Издательство О. Н. Поповой, 1909. - Т. 2. - 703 с.
- Давыдов М. А. Всероссийский рынок в конце XIX - начале ХХ вв. и железнодорожная статистика. - СПб. : Алетейя, 2010. - 832 с.
- Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос : в 2 т. - СПб. : Тип. В. Кирш-баума, 1909. - Т. 1. - 599 с.
- Круглов В. Н. Царь-голод. Факты против мифов // Сборник Русского исторического общества. - Т. 11 (159). - М. : Русская панорама, 2011. - С. 87-106.
- Максимов В. Очерки по истории общественных работ в России. - СПб. : Типо-литография Р. С. Вольпина, 1905. - 259 с.
- Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало XX века. - 2-е изд. - М.: Весь мир, 2012. - 848 с.
- Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. - СПб. : Д. Буланин, 2015. - Т. 2. - 912 с.
- Першин П. Н. Аграрная революция в России: Историко-экономическое исследование: в 2 т. - М. : Наука, 1966. - Т. 1. - 490 с.
- Рогожина А. С. Организация общественных работ в Российской империи во время голода 1891-1892 гг. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия : История. Политология. - 2015. - № 19 (216). - С. 103-109.
- Nafziger S. Decentralization, Fiscal Structure, and Local State Capacity in Late-Imperial Russia // Eloranta J., Golson E., Markevich A., Wolf N. (eds). Economic History of Warfare and State Formation. Studies in Economic History. - Singapore : Springer, 2016. - P. 73-101.
- Robbins R. Famine in Russia, 1891-1892. The Imperial Government Responds to a Crisis. - New York : Columbia University Press, 1975. - 259 p.