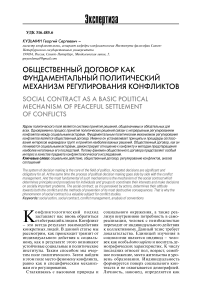Общественный договор как фундаментальный политический механизм регулирования конфликтов
Автор: Кузьмин Георгий Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 7, 2014 года.
Бесплатный доступ
Ядром политического поля является система принятия решений, общезначимых и обязательных для всех. Одновременно процесс принятия политических решений связан с непрерывным регулированием конфликтов между социальными акторами. Фундаментальным политическим механизмом регулирования конфликтов является общественный договор. Именно он устанавливает принципы и процедуры согласования интересов индивидов и групп и принятия наиболее важных решений. Общественный договор, как он понимается социальными акторами, демонстрирует отношение к конфликту и методам предотвращения наиболее негативных его последствий. Потому феномен общественного договора представляет особый интерес в качестве предмета конфликтологического исследования.
Социальное действие, общественный договор, регулирование конфликтов, анализ соглашений
Короткий адрес: https://sciup.org/170167555
IDR: 170167555
Текст научной статьи Общественный договор как фундаментальный политический механизм регулирования конфликтов
К онфликтологический подход заставляет нас вновь обратиться от абстракций к людям. Конфликт – это всегда результат взаимодействия конкретных людей. В данной статье мы рассмотрим, как происходит транзит от индивидуального действия к социальному, как в результате этого возникают устойчивые социальные и политические институты. Таким способом мы очертим поле политического. Затем найдем в этом поле место феномену конфликта, равно как и специфическим механизмам его регулирования.
Сталкиваясь с вызовами природы и социального окружения, а также реализуя внутреннюю потребность в самореализации, человек с неизбежностью переходит от индивидуального действия к коллективному. Данный тезис требует доказательства. Единицей изучения в социологии является индивид – человек как особь homo sapiens и носитель демографических характеристик. К числу последних относят пол, возраст, семейное положение, место жительства и уровень образования. Индивидуальность формируется поверх социального контекста и не охватывается демографией. Личность, наконец, определяется как высшая форма раскрытия специфически человеческих качеств в предметной деятельности, коммуникации и социальном взаимодействии [Новейший философский словарь 1998: 369]. Таким образом, деятельность личности – это всегда коллективное действие (поскольку оно всегда ориентировано вовне и даже в предельном случае вовлекает других как аудиторию). Коллективное действие может приобретать значение в масштабах крупных социальных групп и затрагивать вопросы жизнедеятельности этих групп. В этом случае имеет смысл говорить уже не просто о коллективном, но о социальном действии. Макс Вебер называет социальным любое действие, «которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него» [Вебер 1990: 602].
Социальное действие воспроизводится и координируется. Воспроизводящееся социальное действие формирует специфический социальный институт (в самом широком смысле), а в результате – и всю совокупность институтов. Координация социального действия поднимает проблему принятия решений, имеющих общезначимый и общеобязательный характер. Деятельность по выработке и принятию таких решений мы можем назвать политической. Институты, связанные с принятием таких решений, – это, соответственно, политические институты. Множество политических институтов, обладающих наиболее устойчивой характеристикой воспроизводства, складываются в единую структуру – государство.
Понятие политического, политики может быть интерпретировано в двух различных смыслах (например, в английском языке, в отличие от русского, эти смыслы дифференцированы). Политика как сфера борьбы за власть, партийного и идеологического противоборства, а также область знания, изучающая политику в таком понимании, обозначается словом politics. В то же время деятельность по управлению той или иной системой посредством введения и изменения ее правил обозначается словом policy. Например, понятие security policy (политика безопасности) относится к управлению компьютер- ными или корпоративными системами и несет в себе все черты, которые характеризуют любую политику в этом специфическом, широком смысле. Говоря о политике, мы оперирует этим понятием именно в значении policy. Политика – это деятельность по эвристической выработке и принятию общезначимых и общеобязательных решений в условиях дефицита времени и информации.
Отметим, что деятельность по принятию решений в данном случае рассматривается не как множество дискретных актов нормотворчества (как то принятие закона в нескольких чтениях или подписание конкретного распоряжения), но как непрерывный процесс регулирования социальной системы. Такие феномены, традиционно относящиеся к сфере политики, как экспертиза законов, лоббирование, парламентская борьба, электоральная активность и многие другие, остаются составной частью такого регулирования.
Неотъемлемой характеристикой коллективного и социального действия является их конфликтность. В случае с социальным действием, имеющим большие масштабы и значение, конфликт приобретает сложные, институциональные черты – он становится частью поля политического. Существует множество объяснений имманентной конфликтности, присущей человеческому взаимодействию. Георг Зиммель объясняет ее «априорным инстинктом борьбы» [Зиммель 1994: 114] – фундаментальной враждебностью и стремлением самоутвердиться, с которыми человек реагирует на любое самовыражение со стороны другого, даже если оно не несет в себе угрозу. Эрих Фромм ставит под сомнение естественность специфических для человека форм агрессии, подтверждая идею Зиммеля о том, что конфликтность в своем детерминизме выходит за пределы животного инстинкта защиты [Фромм 1994: 23]. Конфликт – исключительно человеческий, социальный феномен.
Джон Ролз уже с позиции социальной философии говорит об индивидуальных жизненных планах, несовпадение которых неизбежно оставляет пространство для конфликта, который соседствует с любыми формами взаимовыгодного сотрудничества [Rawls 1999: 110].
Экзистенциалист Сартр рассуждает сходным с Зиммелем образом – он подчеркивает неразрывную связь феноменов субъектности и конфликтности. Человек утверждает себя в качестве субъекта только противопоставляя себя другому, поглощая его свободу [Сартр 1988: 208]. В этой оппозиции людей друг другу формируется их самость. Разница в подходах двух авторов состоит в том, что для Сартра конфликтность не столько что-то первичное, поверх чего вырастают цивилизованные формы, сколько сущностная характеристика человеческого «я». Оппозиция другому – одна из основ нашего бытия, а не разочаровывающая данность, с которой приходится мириться. Пожалуй, несмотря на метафоричность используемого автором языка, именно подход Жан-Поля Сартра позволяет объяснить имманентность конфликта достаточно фундаментально и в то же время безоценочно.
Как бы то ни было, конфликт неизбежен – и с той же неизбежностью должен регулироваться в масштабах общества с целью обеспечения его интеграции, целостности. Политика с очевидностью вынуждена выполнять эту функцию, поскольку решения, имеющие общественную значимость и обязательные для всех, требуют согласования множества противоречивых интересов. Устойчиво воспроизводящиеся политические институты представляют собой различные механизмы для регулирования имманентных социальных конфликтов. Вопрос заключается в том, «почему в процессе трансформации российского общества не произошло движения от “токсичных” видов социальных конфликтов, не поддающихся институционализации и несущих угрозу существованию общества, в сторону по преимуществу “позитивных” (не приводящих к разрушению социума) механизмов социальной динамики: неконфликтных изменений и конфликтов, поддающихся институционализации и составляющих тот политико-социальный континуум, в котором могут развиваться и консолидироваться демократические модернизационные процессы?» [Алейников 2013: 94].
Таким образом, совокупность основных механизмов регулирования, имеющих всеобъемлющее значение, мы можем отождествить с феноменом общественного договора. Общественный договор определяет базовые границы и характеристики социального действия и фундаментальные принципы согласования противоречивых, конфликтных интересов. Можно утверждать, что общественный договор в его современном понимании является важнейшим политическим механизмом регулирования конфликтов. Даже властные отношения возникают уже на основании того или иного (чаще – имплицитного) общественного договора, поскольку власть предполагает как способность отдавать команды, так и готовность им подчинятся – эти составляющие неразрывны.
Теории общественного договора имеют значимую историческую традицию, вскрывающую динамику восприятия человеком принципов свободной социальной самоорганизации. В современном виде концепция общественного договора существует как часть множества более обширных социально-политических и социальнофилософских теорий как левого, так и правого толка. По существу, концепция общественного договора стала «общим местом» в научном мире – мире, усвоившем за три века политический язык классического либерализма Вольтера, Канта и Милля. В значимой работе Джона Ролза «Теория справедливости» изложена одна из современных и наиболее удачных трактовок этой концепции.
Общественный договор, согласно ролзианской парадигме, выступает механизмом регулирования имманентного конфликта интересов, возникающего при распределении результатов человеческой кооперации [Rawls 1999: 109]. Успешное регулирование конфликта по специфическим правилам порождает справедливый социальный порядок. Общественный договор, определяющий эти правила, непрерывно воспроизводится социальными акторами – как явно, так и имплицитно. Ролз указывает на то, что если бы фундаментальные отношения акторов не содержали элементы конфликтности, понятие справедливости не имело бы смысла. «Справедливость есть позитивное качество таких видов деятельности, в которых присутствуют конкурирую- щие интересы и в которых люди считают себя вправе отстаивать свои права друг по отношению к другу. В сообществе святых, разделяющих общий идеал, если бы такое сообщество могло существовать, споры о справедливости не велись бы» [Rawls 1999: 112]. Таким образом, подчеркивается неразрывная связь таких феноменов, как «конфликт», «кооперация» и «взаимозависимость» – это роднит ролзианскую парадигму с конфликтологической.
Общественный договор задает принципы и процедуры принятия общезначимых и общеобязательных решений, а также затрагивает содержание этих решений. Общественный договор – особый механизм из сферы политического. Для Джона Ролза ведущим принципом, который должен внедряться в политическую жизнь посредством общественного договора, является принцип компенсации неравенств (потому его автора и называют либеральным эгалитаристом). Компенсация включает в себя как обеспечение равенства прав для представителей различных социальных страт, так и распределение обязанностей и политической ответственности между группами пропорционально их возможностям.
Отметим, что актуальное содержание общественного договора может и будет отличаться от такового в описании любого социально-политического философа – как из лагеря эгалитаристов, так и из числа их оппонентов. Реальность всегда многограннее теории, а также в огромной степени детерминируется конкретным культурно-историческим контекстом.
Любое политическое решение в сфере управления обществом является формой договоренности (в частности, фундаментальной договоренности масс и элит). Таким образом, в объем понятия общественного договора может быть включено крайне обширное множество формальных и неформальных норм, возникающих в результате согласования различных интересов. В структуре общественного договора, однако, мы можем выделить две различные части. С одной стороны, он определяет принципы принятия политических решений, формирует процедуры для этого. С другой – он сам является производным от полити- ческого процесса (процесса принятия решений), поскольку постоянно пополняемая и изменяемая нормативная база может трактоваться как часть подвижного, воспроизводящегося общественного договора. Нетрудно заметить, что политика в целом как деятельность по принятию решений и регулированию конфликтов и общественный договор как своеобразный политический механизм связаны отношением взаимозависимости. Причем взаимозависимости не только структурной, но и процессуальной, поскольку выступают этапами одного и того же процесса-цикла.
Чтобы проследить специфику общественного договора как политического механизма регулирования конфликтов, выделим одну черту, общую для всех феноменов сферы политического. Политика всегда является областью пересечения реальности и декларации – того, что составляет дух и широкий, противоречивый социальный контекст нормы, и того, что записывается в ее букве и выносится на публичное обозрение. Экономисты институциональной школы (Оливер Уильямсон, Дуглас Норт, Джеймс Бьюкенен, Александр Аузан и др.) указывают на необходимость исследовать реальность политических решений, их действительное содержание и экономический эффект, а не декларативную составляющую. С точки зрения конфликтологии обе составляющие важны, поскольку область их несовпадения и становится пространством конфликта.
На наш взгляд, любой социально адаптивный субъект способен схватывать реальность политических решений и следовать ей, и именно это делает его членом общества. В этом смысле выражение: «в стране не соблюдаются законы» теряет смысл, поскольку люди в своем поведении ориентируются не на букву, а на дух той или иной нормы и возникающую из этого духа реальную социальную практику. Именно поэтому мы можем говорить о том, что политика (реальная политика) касается принятия решений, значимых и обязательных для всех. Впрочем, в целях работы с социальными конфликтами нам следует разделять пласты реальности, декларации и пересечения первого и второго в сознании каждого из акторов.
Рассматривая соглашения как фундаментальные социальные скрепы и механизм регулирования конфликтов (а общественный договор – как базовый механизм), мы можем сказать, что активное и агрессивное конфликтное поведение свидетельствует о дисфункции соглашений. Метод, позволяющий выявлять причины этой дисфункции и работать с ними, можно назвать анализом соглашений, или конвенциональным анализом. Реальный договор возникает на пересечении четырех феноменов: политических деклараций, нормативно-правовой базы, множества внешних ситуативных факторов и имплицитной политико-правовой культуры. Конфликт активно проявляет себя в тот момент, когда в этой устоявшейся структуре возникают непредвиденные изменения (а они неизбежно возникают). В этом случае с целью регулирования конфликта должно быть принято новое решение, заключено новое соглашение, т.е. оказываются вновь востребованными политические механизмы.