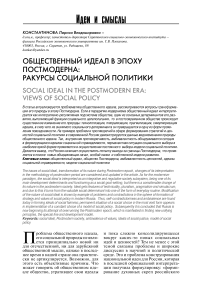Общественный идеал в эпоху постмодерна: ракурсы социальной политики
Автор: Константинова Лариса Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируется проблематика общественного идеала, рассматриваются вопросы трансформации его природы в эпоху Постмодерна. Если в парадигме модернизма общественный идеал интерпретируется как интегративно-регулятивная подсистема общества, один из основных детерминантов его развития, выполняющий функции социального целеполагания, то в постсовременном обществе происходит существенное изменение его природы: технологизация, плюрализация, прагматизация, симулякризация идеала, в силу чего из значимого социального детерминанта он превращается в одну из форм проявления повседневности. На примере проблем и противоречий в сфере формирования стратегий и ценностей социальной политики в современной России демонстрируются данные видоизменения природы общественного идеала. Так, внутренняя противоречивость, амбивалентность обнаруживается сегодня в формирующихся идеалах социальной справедливости, перманентная ситуация социального выбора в наиболее яркой форме проявляется в осуществлении постоянного выбора модели социальной политики. Делается вывод, что Россия начинает осуществлять попытку выхода за границы Постмодерна, что проявляется в поиске новых объединяющих начал, особой линии и собственной модели развития.
Общественный идеал, общество постмодерна, амбивалентность ценностей, идеалы социальной справедливости, модели социальной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170167444
IDR: 170167444
Текст научной статьи Общественный идеал в эпоху постмодерна: ракурсы социальной политики
Проблема общественного идеала, его социальной природы не является принципиально новой ни для отечественной, ни для зарубежной общественной мысли, однако в последнее время в нашей стране она практически не артикулируется. Возможно, для этого есть объективные причины. Что может говорить об общественном идеале общество, утратившее свои идеалы и пока сложно консолидирующееся вокруг каких-то новых социальных идей и ценностей? Тем не менее с этой темой связаны проблемы и широкие дискуссии в научной и политической среде. Это и проблема конструирования национальной идеи для России, которая в последней официальной интерпретации получила формулировку: «формирование духовных скреп российского общества». Это и проблема ценностной дезориентации поколений постсоветского периода. Упомянем проблему эффективности социального целеполагания; осмысления процессов, происходящих в сфере политического идео-логотворчества; сложного и болезненного поиска новых форм национальной и религиозной идентичности в условиях светского и многонационального общества. Здесь же проблемы интерпретации отечественной истории в условиях отсутствия ценностных и идеологических критериев для этого.
Данный проблемный контекст во многом может характеризоваться как проявление духовного кризиса. Вместе с тем он свидетельствует о том, что в российском обществе идет поиск путей выхода из сложившейся ситуации, сохраняется тяга к неким общим, универсальным духовным основам, желание видеть очертания будущего состояния общества, потребность консолидироваться в рамках общих целей развития. Поэтому сегодня имеются основания для того, чтобы возобновить разговор об общественном идеале с точки зрения кардинальным образом изменившегося общества.
Оптимистические эпохи и воззрения, демонстрирующие уверенность в возможности освоения и достижения идеала, в истории человечества сменялись пессимистическими эпохами и воззрениями, разрушающими данную уверенность и провозглашающими общество без идеалов. Тем не менее сам процесс поиска, в какой бы форме он ни выражался, свидетельствует о том, что идеал как проблема обладает детерминирующими свойствами для человека и социума и независимо от характера интерпретаций встроен в некоторые сущностные основы человеческой самости как на индивидуальном, так и на социальном уровне.
В начале 1990-х гг. автором данной статьи было предложено одно из видений социальной природы общественного идеала [Константинова 1994]. Авторская концепция была выстроена в рамках модернистской парадигмы, основанной на представлении об идеале как о неком универсальном образе совершенного общественного устройства, воспроизводимом и постижимом на рациональном уровне и обеспечивающем развитие общества в направлении прогресса. Суть ее заключалась в том, чтобы посмотреть на общественный идеал не столько как на факт сознания, сколько как на социальный феномен, занимающий в общественной системе определенное место, обладающий определенной структурой и выполняющий в силу этого социально значимые функции. В рамках методологии системного и структурно-функционального подходов общественный идеал был представлен как универсальная, необходимая, функционально-целесообразная подсистема общества. В качестве основных элементов структуры общественного идеала было предложено рассматривать социальные идеи, социальные ценности, социальные технологии и нормативный комплекс требований к личности. Доминирующее место в этой системе занимает подсистема социальных целей (социальные идеи и социальные ценности). Социальные технологии в совокупности с нормативными требованиями к личности образуют комплекс средств достижения данных целей. В системе общественного идеала образ совершенного будущего превращается в образ совершенного желаемого будущего, в образ-цель, который может приобретать характер предельной, конечной цели в определенные временные периоды. В такой интерпретации общественный идеал становится мощным социальным регулятором, одним из основных детерминантов функционирования и развития общества.
Однако постмодернизм конца XX – начала XXI вв. разрушил устои, на которых долгое время зиждились теории общественного идеала (рационализм, универсализм, абсолютизм, прогрессизм), воплотившись в «то состояние, с помощью которого современное общество осознало свою нереализуемость, недостижимость своих целей, поняло, что нет способа устранить разнообразия и плюрализм» [Бауман 1991: 15-16].
Современные подходы к пониманию эпохи Постмодерна представляют собой во многом эклектичное полотно художественно-философской мозаики, вскрывающей парадоксальность деконструкции и разломов нынешней эпохи. С одной стороны, они могут трактоваться как тотальный кризис социальности, а с другой – восприниматься как принципиально новый способ организации социальной реальности. Социальная деконструкция и децентрализация, плюрализм и эклектизм культур, всеобщий хаос и неопределенность, ризом-ность развития, отсутствие общепринятых норм и амбивалентность ценностей, симулятивность и театрализация основных сфер жизни, виртуализация и гла-муризация социального пространства, нелинейность и иррационализация социальных процессов, подавляющий агностицизм и прагматизм расколотого общества Постмодерна, живущего здесь и сейчас, отвергающего супероснования и большие нарративы, оправдывающего идеологический плюрализм и мифы потребительства, внедряемые в сознание с помощью тотальной манипуляции, – вот лишь немногие значимые черты постсовременности.
Что же происходит с общественным идеалом как фундаментальным основанием предыдущих эпох в обществе Постмодерна? Исчезает ли он совсем как социальный, духовный феномен и общественный детерминант либо остается, но при этом принципиальным образом изменяется его природа? Однозначных ответов на данные вопросы сегодня, по всей видимости, нет, т.к. основной характеристикой социальной жизни в обществе Постмодерна становится ее неоднозначность. Но в этой неоднозначности появляется возможность поиска общественного идеала, его ино-форм и иновоплощений.
Так, иноформы общественного идеала можно обнаружить в технологизации постмодернистского общества, в его тотальном программном менеджменте, воплощением которого становится социальный проект, представляющий собой рациональный план переустройства какого-либо сегмента общественной жизни в соответствии с поставленной целью. В результате общественный идеал из поля, характеризующегося такими параметрами, как совершенное, абсолютное состояние, не имеющее отрицательных характеристик, замыкающееся на тотальности предельных оснований, перемещается в пространство оптимальности, т.е. реально допустимого, адекватного конкретной ситуации состояния, которое, не являясь совершенным, может одновременно содержать положительные и отрицательные проекции. В таком виде идеал встраивается в реальность, перестает быть трансцендентной, отдаленной во времени утопией или традицией и становится постоянно переструктурирующейся в череде сменяющихся проектов локальной прагматической идеей. И в этом сохраняется его целеполагательная функция. Э. Гидденс пишет, что постсовременность может создавать утопию, но определенного вида, в качестве проекта, ориентированного на будущее, который соединен с имманентными тенденциями развития и поэтому является реалистичным [Гидденс 2011: 308].
При этом появляется новая форма материальной представленности такой прагматической идеи в виде надреалистичной модели, упрощающей видение объекта и конструируемой путем отбрасывания несущественных факторов. В понятийныхконструкцияхПостмодерна такая модель интерпретируется как симулякр. «Именно принцип симулякра правит нами сегодня вместо прежнего принципа реальности. Целевые установки исчезли, теперь нас порождают модели. Больше нет идеологии, остались одни симулякры» [Бодрийяр 2000: 44]. По всей видимости, общественный идеал в одной из своих иноформ может быть описан как симулякр. Ну чем идеал не фантом, не образ того, чего нет и скорее всего никогда не будет? Возможно, все идеалы предыдущих эпох были такими фантомами, а нереалистичность – это в принципе сущностная черта любого общественного идеала. Если иновоплощения общественного идеала в эпоху Постмодерна имеют место, то они проявляются в том, что идеал существует в виде альтернативных симуля-тивных моделей, чего никак не могло быть в предыдущие эпохи. Здесь закрывается путь к возникновению любой системной, господствующей и адекватной для реальных отношений идеологии [Бузгалин 2004: 3-15]. Становится неизбежной вариативность моделей, обусловливаемая плюралистичностью, гетерогенностью, амбивалентностью восприятия социальных процессов. В результате общество, политический и социальный субъект оказываются в ситуации перманентного выбора альтернативных моделей. При этом любой сделанный выбор никогда не является окончательным, он может быть изменен в зависимости от обстоятельств в пользу иных альтернативных моделей. В этой ситуации выбор становится абсолютным, а идеалы – относительными. Их теперь много, и сегодня может быть выбран один идеал, а завтра – другой, противоположный. Более того, в парадигме постмодернизма сам идеал может быть амбивалентен, т.е. сама конструируемая идеальная модель может предполагать внутри противоречивую природу моделируемого объекта. Например, в качестве идеального конструкта может быть представлена модель государства, являющегося одновременно институтом классового господства и классового мира. Или идеал социальной справедливости может одновременно предлагать уравнительную и распределительную социальную справедливость.
Такая вариативность и альтернативность возможных идеальных моделей детерминируется состоянием амбивалентности, раздвоенности сознания людей. Деконструкция монолитных ранее ценностных систем в обществе Постмодерна, разрушение абсолютов и моральных критериев привели к возможности оценки одной и той же идеальной конструкции одновременно в абсолютно разных ценностных плоскостях. Поэтому ситуация выбора оказывается необходимой не только относительно альтернативных моделей, но и относительно систем ценностей, с помощью которых эти модели могут быть оценены и им придано какое-то определяющее значение. Социальное и личностное напряжение, возникающее вследствие перманентного выбора, осуществляемого в условиях временн6го дефицита, в результате может приводить к усталости и отказу от осуществления актов выбора, что в итоге выражается в ситуа-тивности поступков и деятельности. И в этом проявляется сверхсубъективизм постсовременности, когда, в конечном счете, все оказывается в зависимости от восприятия и состояния субъекта здесь и сейчас. В таком пространстве достижение каких-либо системных состояний и идеалов становится невозможным, т.к. любая система, стремящаяся к совер- шенству, обретает катастрофический, а не диалектический сценарий развития, ведущий ее к перерождению и смерти, и именно в высшей точке ценности она ближе всего оказывается к амбивалентности [Бодрийяр 2000: 47].
Таким образом, если мы допускаем наличие общественных идеалов в обществе Постмодерна, то в видоизмененной форме. По сравнению с классическим представлением здесь происходит существенная технологизация, плюрализация, прагматизация, симулякризация идеалов, в силу чего из значимого социального детерминанта он превращается в одну из форм проявления повседневности.
Российское общество, реализующее на протяжении всей своей истории в большей степени западный сценарий развития, является обществом крайностей. Поэтому и проявления Постмодерна сегодня находят у нас свое крайнее выражение [Овсянников 2010: 223-235]. Мы можем обнаружить ино-воплощения общественного идеала, о которых только что упоминали. Так, в системе государственного социального целеполагания программно-целевые и проектные методы социального планирования и прогнозирования заняли основополагающее место. Яркими примерами могут служить 4 приоритетных национальных социальных проекта, запущенных в середине нулевых годов, которые кроме конкретных тактических целей и способов их достижения имели существенную идеологическую составляющую, направленную на мобилизацию различных социальных и профессиональных групп для их реализации.
Если говорить о перманентной ситуации социального выбора, то она в наиболее яркой форме проявляется в сфере социальной политики. Более 20 лет постсоветской истории – это годы осуществления постоянного выбора модели социального государства с учетом сложившихся традиций и имеющегося мирового опыта. За достаточно короткий временной период в России несколько раз происходила кардинальная смена государственной стратегии в области социальной политики, изменялись предлагаемые обществу социальные идеалы в данной сфере: конец 1980-х – идеалы государствен- ного патернализма; 1990-е гг. – идеалы неолиберализма в социальной политике; нулевые годы – идеалы социально ориентированного государства; 2008– 2009 гг. – социально ориентированная антикризисная стратегия, 2010–2013 гг. – идеалы новой социальной политики, ориентированной на развитие человеческого капитала [Константинова 2011: 87-94]. В ситуации перманентного стратегического выбора основной вопрос, перед которым оказалось российское общество в начале 1990-х, остается открытым. Это вопрос об оптимальной модели распределения социальной ответственности между государством, рынком и общественным сектором, о выработке базовых принципов реализации социальной политики в условиях рыночной экономики. Сегодня ситуация усугубилась в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, показавшим неустойчивость всех действовавших в мире моделей социальной политики. В результате Россия опять оказалась в ситуации стратегического выбора модели социальной политики.
Однако постоянно сменяющиеся модели социальной политики, в сущности, оказываются симулякрами. Декларируемая в них и реально реализуемая социальная политика дистанцированы друг от друга. В сравнении с задаваемыми непатерналистскими моделями осуществляемая социальная политика носит внутренне противоречивый и половинчатый характер. Государство вроде бы и пытается сбросить с себя б6льшую часть функций и полномочий, но в реальности не может этого сделать в полной мере в силу неразвитости негосударственных институтов социальной политики, глубоких традиций централизации власти, региональной раздробленности и сопротивления бюрократического аппарата. Эти противоречия содержатся в осуществляемых социальных реформах: тенденции децентрализации полномочий на фоне централизации финансовых потоков; усиливающаяся централизация управления социальной сферой и регулирования общественного сектора. Результатом такой половинчатости явилось распространение целой системы нелегитимированных практик и двойных стандартов социальной политики:
теневая занятость и доходы; сокрытие доходов предприятий с целью экономии на социальных платежах на фоне квазиактивной социальной политики; давление государства на бизнес и НКО с целью вынуждения их к социальной ответственности; неофициальные платежи за социальные услуги; феномен фальшивых льготников; коррумпированность ведомств и учреждений, оказывающих социальные услуги; невыполнение социальных обязательств государством в качестве работодателя. Поэтому можно сказать, что государство на уровне институтов пытается задавать одни (новые) правила игры, но в то же время на практике продолжает во многом играть по другим (старым) правилам. Одним из следствий этого стал феномен институциональной дифференциации социальной сферы (разделение профильных институтов социальной сферы – образования, здравоохранения, сферы досуга, туризма – на элитные и массовые), обострилась проблема доступа к качественным социальным услугам, что в целом привело к увеличению социального неравенства.
Внутреннюю противоречивость, амбивалентность мы можем обнаружить сегодня и в формирующихся идеалах социальной справедливости. В современном российском обществе значительная часть населения затрудняется определить, что такое социальная справедливость. Либеральные взгляды сочетаются с коммунистическими под-ходами1. Именно поэтому многие российские исследователи определяют современную Россию как расколотое общество, для которого характерен конфликт фундаментальных ценностей справедливости [Карнаш 2011: 128-129]. При этом речь идет об отсутствии принципиального консенсуса в отношении ценностей общей справедливости, более того, отмечаются трудности в достижении такого консенсуса [Кашников 2004: 31]. Однако специфика российской ситуации заключается в том, что на фоне неоднозначности в понимании социальной справедливости преобладающим феноменом является ощущение тотальной социальной несправедливости. Ценностный разлом находит свое продолжение на уровне определения факторов, вызывающих социальную несправедливость. Результаты исследований, проведенных автором [Константинова, Константинов 2012: 97-101], показали, что большинство граждан одной из основных причин социальной несправедливости в России считают коррупцию. Однако парадоксальность современного сознания российских граждан заключается в том, что они одновременно и осуждают коррупцию, и одобряют ее, считая одной из традиционных культурных форм, важным фактором упорядочения социальных связей в условиях слабо развитых социальных институтов.
Данные примеры подтверждают предельную сложность нынешней эпохи, вскрываемой в интерпретациях постмодернизма, который, по сути, не является перспективной теорией развития и не дает ответы на сложные вопросы постсовременности.
Тем не менее, возможно, вместе с Западом или без него Россия сегодня начинает осуществлять попытки выхода за границы Постмодерна в некий Неомодерн с возрождением новых объединяющих начал, ищет свою особую линию и модель развития. В этом потоке рождаются новые социальные идеи (суверенная демократия, единая российская нация, новое евразийство и т.п.), которые, вероятно, когда-нибудь окажутся способными вырасти в продуктивную утопию, воспроизводящую для России ее собственный путь.