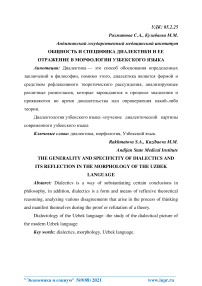Общность и специфика диалектики и ее отражение в морфологии узбекского языка
Автор: Рахматова С.А., Кузибаева М.М.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 9 (88), 2021 года.
Бесплатный доступ
Диалектика — это способ обоснования определенных заключений в философии, помимо этого, диалектика является формой и средством рефлексивного теоретического рассуждения, анализирующее различные разногласия, которые зарождаются в процессе мышления и проявляются во время доказательства или опровержения какой-либо теории. Диалектология узбекского языка -изучение диалектической картины современного узбекского языка
Диалектика, морфология, Узбекский язык.
Короткий адрес: https://sciup.org/140255018
IDR: 140255018 | УДК: 85.2.25
Текст научной статьи Общность и специфика диалектики и ее отражение в морфологии узбекского языка
Актуальность. Современный узбекский язык характеризуется значительной диалектной разветвленностью, что обусловлено сложным этногенезом узбекского народа[2].
В этногенетических процессах Среднеазиатского междуречья участвовали многие этносы в число которых входили носители как и восточно-иранских языков, так и огузских, карлукских и кипчакских наречий.
Узбекский язык входит в обширную тюркскую группу, а его ближайшими «собратьями» являются тюркский и уйгурский языки, относящиеся к чагатайской (так называемой карлукской) подгруппе[1].
Нынешний общепринятый узбекский язык базируется на разговорном и письменном наречии Ферганской долины, которому свойственно отсутствие гармоничного сочетания гласных звуков. Однако в целом лингвисты насчитывают очень много наречий (диалектов) узбекского языка, образующих весьма разветвленную структуру [4].
Нынешние разговорные наречия, существующие в самом Узбекистане, разделяют на две большие группы:
«акающие» — которые также подразделяются на две подгрупп, отличающихся друг от друга применением начальных букв «дж» или «й»,
«окающие» — такая манера говорить свойственна больше жителям столицы и Ташкентской области, Бухары, Самарканда, а также некоторых других прилегающих территорий.
Лингвисты же классифицируют все диалекты узбекского языка по 4-м группам:
Кыпчакский говор, наиболее родственный и созвучный казахскому, был сформирован в давние времена среди кочующих узбекских народов. Сегодня он распространен на землях всего Узбекистана, впрочем, как и в остальных государствах этого региона. К кыпчакскому диалекту относится и аутентичный сурхандарьинский говор. Также к кыпчакско-ногайской ветви тюркских языков наравне с казахским, ногайским и карагачским относится и каракалпакский язык. Он очень схож лексически с казахским языком, однако имеет ряд значительных различий в орфографии [3].
К узбекским наречиям, включенным в огузскую группу, относятся специфичные диалекты северо-западного района и южных областей страны. Сюда же входит, например, хорезмский, довольно специфичный говор, очень напоминающий туркменский язык. Согласно классификации, разработанной известным исследователем Узбекской культуры Самойловичем А.Н., эта группа включает хивинско-узбекский и, конечно, хивинско-сартовский говор[1].
Южно-узбекские диалекты широко распространены сегодня в центральных вилоятах (областях) современного Узбекистана, и на востоке страны. Также к этой группе стоит отнести и городские наречия севера Афганистана. Эта категория диалектов считается наиболее похожей на персидский язык, что отразилось и на фонетике, и на лексической основе.
Узбекские диалекты севера, получившие наибольшее распространение на юге Казахстана.
Несмотря на такое изобилие разнообразных наречий и диалектов, родственных и свойственных узбекскому современному языку, его классической нормой официально признан в большей степени северный (ферганский) язык и в некоторой степени — южные диалекты, при этом на первом говорят более 17 миллионов этнических узбеков, а на втором -примерно полтора миллиона представителей узбекской и ряда других наций, в настоящее время проживающих на территориях Турции, Афганистана и Пакистана. После 1937 года классический статус узбекского языка официально закрепился за фергано-ташкентскими диалектами[3].
Цель исследования. Целью исследования является изучение отражения диалектики общности и специфики в морфологии узбекского языка.
Обсуждения. Среди работ по Узбекской диалектологии, по понятным причинам, до сих пор преобладали монографические описания диалектных районов и отдельных говоров. Такие описательные монографии были необходимы не только в начальный период работы, когда каждое новое описание в сущности было открытием неизведанного; и теперь, при любых задачах более широкого научного синтеза, они остаются важнейшей материальной базой диалектологического исследования. Чем больше будет собрано и описано фактов, тем более прочными явятся и построенные на них обобщения. Что касается этих обобщений, то до сих пор они ограничивались по преимуществу определением и локализацией изучаемого говора в общих рамках диалектного членения соответствующего национального языка, т.е. вопросами классификации диалектов данного языка, опирающейся в свою очередь на общую классификацию тюркских языков и наречий. Следует сразу же отметить, что в этой области еще многое остается сейчас дискуссионным и требует методологического пересмотра и более прочного теоретического обоснования.
Диалекты тюркских языков», авторы его, по-видимому, рассматривают каждый национальный язык (в его современном состоянии) как «систему» диалектов, распадающихся на наречия, говоры и подговоры, между которыми надлежит установить границы, запечатлев их в конце соответствующего монографического очерка на «карте диалектов» данного языка.
Между тем такая точка зрения, сознательно или бессознательно, исходит из старого представления о «родословном древе» языков и диалектов, выдвинутого А. Шлейхером более ста лет назад. Давно отвергнутая в теории, эта концепция продолжает тем не менее существовать на практике как основа многих генетических классификаций языков и диалектов не только тюркских, но и индоевропейских.
Абстрактный схематизм придает этой концепции видимую простоту, соблазнительную и сейчас для многих языковедов, однако, не учитывающую всей реальной исторической сложности языкового развития. Подобно тому как «язык-основа» данной генетически родственной семьи языков распадается с этой точки зрения на группы и подгруппы, а эти последние — на отдельные исторически известные языки, так по тому же принципу «родословного древа» каждый язык в свою очередь распадается на наречия и диалекты, говоры и подговоры, представляющие последовательные «ответвления» общенародного языка, его «ветки» и «веточки».
При этом молчаливо подразумевается, что спонтанная дифференциация языков и диалектов, восходящих в конечном счете к «языку-основе» как своей исходной точке, отражает в плане историческом такое же механическое дробление народов и племен, сопровождаемое их пространственным расхождением,— представление, находящееся в противоречии с данными современной исторической этнографии, которая, подобно исторической диалектологии, признает наряду с расхождениями не менее существенные для формирования народностей схождения и смешения разноязычных и разнодиалектных племенных групп.
Можно предполагать, что на сводной «карте диалектов», которая явится завершением классификации диалектов данного языка (и будет, очевидно, единственной для данного языка!), границы диалектов будут очерчены некоторой совокупностью различительных признаков, которые будут выбраны по необходимости субъективно и о составе которых между специалистами обычно ведутся в таких случаях нескончаемые и по существу бесплодные споры.
Можно также предвидеть заранее, что при этом придется ввести поправки на так называемые «переходные диалекты», связанные одними своими признаками с одним диалектным массивом, другими — с соседним массивом, противопоставленным первому. Но «переходный диалект» в подобных случаях является понятием столь же проблематичным и метафизическим, как и «диалект» в смысле замкнутого «ответвления» общенародного «языкового древа».
К тому же все эти взаимоотношения диалектов будут показаны в границах и рамках современных национальных республик, в соответствии с сравнительно недавним их национальным размежеванием, в ряде случаев перекрывшим более древние диалектные членения.
Вывод. Естественно, что вопросы диалектологии Узбекского языка тесно связаны с проблемами морфологическими и синтаксическими и, в частности, с проблемой терминологии, но круг этих вопросов приходится выделять' как особую задачу: наших очередных исследований.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУР:
-
1 .Алимова, А. Т. Словоизменение и словообразование узбекского и русского языков в свете типологического контраста // Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2001. –С.21–29.
-
2 .Бабаходжаев А, Б., Барсикьян С.А. Сравнительно-сопоставительная типология русского и узбекского языков. – Самарканд: СамГУ, 2013. 150 с.
-
3 .Казакова, О. П. К проблеме типологии словообразовательных систем славянских и тюркских языков // Русский язык в национальной школе. – М., 2009. – С. 54;
-
4 .Хамраева, Ё.Н. Классификация частей речи в русском и узбекском языках [Электронный ресурс] / Ё.Н. Хамраева // Электронный периодический научный журнал «SCI–ARTICLE.RU». – 2014. – № 9
"Экономика и социум" №9(88) 2021
Список литературы Общность и специфика диалектики и ее отражение в морфологии узбекского языка
- Алимова, А. Т. Словоизменение и словообразование узбекского и русского языков в свете типологического контраста // Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2001. –С.21–29.
- Бабаходжаев А, Б., Барсикьян С.А. Сравнительно-сопоставительная типология русского и узбекского языков. – Самарканд: СамГУ, 2013. 150 с.
- Казакова, О. П. К проблеме типологии словообразовательных систем славянских и тюркских языков // Русский язык в национальной школе. – М., 2009. – С. 54;
- Хамраева, Ё.Н. Классификация частей речи в русском и узбекском языках [Электронный ресурс] / Ё.Н. Хамраева // Электронный периодический научный журнал «SCI–ARTICLE.RU». – 2014. – № 9