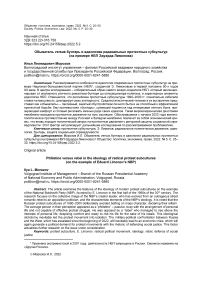Обыватель versus бунтарь в идеологии радикальных протестных субкультур (на примере НБП Эдуарда Лимонова)
Автор: Морозов Илья Леонидович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности идеологии современных протестных субкультур на примере Национал-большевистской партии (НБП)1, созданной Э. Лимоновым в первой половине 90-х годов ХХ века. В центре исследования - собирательный образ самого вождя-создателя НБП, который эволюционировал от эпатажного уличного романтика-бунтаря до оппозиционера-политика, и характерные элементы идеологии НБП. Отмечается, что российские протестные субкультуры 1990-2000 гг. сознательно избегали ставки на массовость, декларируя свою элитарность. Среднестатистический человек в их восприятии представал как «обыватель» - пассивный, занятый обустройством личного быта и не способный к эффективной протестной борьбе. Ему противостоял «бунтарь», сумевший подняться над интересами личного быта, презирающий комфорт и готовый рисковать жизнью ради своих идеалов. Такая мировоззренческая дихотомия неизбежно выводила протестное движение на путь изоляции. Обострившееся с начала 2022 года военно-политическое противостояние между Россией и Западом неизбежно повлечет за собой экономический кризис, что вновь породит политический запрос на протестные движения с риторикой защиты социальной справедливости. Этот фактор актуализирует дальнейшие исследования по рассматриваемой проблематике.
Протестная субкультура, э. лимонов, радикальное политическое движение, идеология, бунтарь, защита социальной справедливости
Короткий адрес: https://sciup.org/149139877
IDR: 149139877 | УДК: 323.22+316.758
Текст научной статьи Обыватель versus бунтарь в идеологии радикальных протестных субкультур (на примере НБП Эдуарда Лимонова)
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волгоград, Россия, ,
Volgograd Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Volgograd, Russia, ,
Один из актуальных вопросов современности, достойный стать предметом глубокого теоретического исследования в сфере политической культуры и идеологии, но пока недостаточно представленный в ней, заключается в феномене социального мировосприятия радикалами и экстремистами всего политического спектра собственно массового общества, тех людей, ради которых формально и ведется борьба экстремистских групп. Протестные идеологии тем и отличаются от программ социальных революционеров, что последние, несмотря на свою классовую непримиримость и агрессивность, все же провозглашают приоритет «простого человека», «пролетария», «крестьянина» и т.д., официально восхваляя и идеализируя его. Но все политические экстремисты, как левацкого, так и правофашистского толка, осознают себя небольшим отрядом избранных (вставших над примитивным социумом и в общем противостоящих ему) или даже «паладинами современности», в одиночку ведущими борьбу с неким вселенским злом, отраженным в государственной системе. Широкие социальные слои воспринимаются ими в качестве пассивной безликой массы населения, наделяемой нелицеприятными эпитетами и уничижительными оценками.
Неслучайно именно экзистенциализм, зачастую вопреки воле своих создателей, явился мировоззренческим корнем, давшим массу идеологических ответвлений, породивших во второй половине ХХ века и студенческие левацкие баррикады Сорбонны, и пули «Фракции Красной Армии» (террористическая группировка, действовавшая в ФРГ в 70-х – 80-х годах ХХ века). Даже вполне умеренный философ Хосе Ортега-и-Гассет, подмечая феномен «стадности», которая набирает силу в европейской культуре, с трудом скрывал презрение к «массам», которые «душат» все лучшие помыслы творческого меньшинства (Ортега-и-Гассет, 2001). И если далее интеллектуальный вектор развития экзистенциализма как политико-философской теории устремился в сторону личностного внутреннего или внешнего трансцендентального бунта с целью выразить закостеневшему лицемерному обществу свое презрение и добиться духовной свободы от него (А. Камю, Ж.-П. Сартр), то следующий шаг, предпринятый уже «новыми левыми» Франкфуртской школы, состоял в прямом призыве к творческому меньшинству взять на себя миссию разгрома «общества одномерности». И в данной трактовке «маленький человек» западной цивилизации представляется духовно бедным, легко манипулируемым, лишенным творческих интересов, покорным (Маркузе, 2002).
Последователи социальных экспериментов «новой левой» волны второй половины ХХ века вряд ли испытывали столь острую психологическую потребность в «исповеди» перед общиной, ради которой революционеры-террористы столетием ранее метали бомбы в своих сановных жертв. Читая произведения, к примеру, Ги Дебора или Жана Жене, понимаешь, что главной задачей этих «властителей дум» юных бунтарей была задача как можно болезненнее уязвить «народного человека», обывателя. Но если Ги Дебор счел нужным облачить свой выпад против социальной системы в некое подобие философского трактата (Дебор, 2000), а идол протестной субкультуры 60-х годов ХХ века бунтарь-хулиган Эбби Хоффман написал откровенную сатиру («Сопри эту книгу»)1, то лидер российского национал-большевизма конца ХХ – начала ХXI вв. Эдуард Лимонов начал с того, что спровоцировал скандал автобиографическим романом «Это я – Эдичка»2, постаравшись плеснуть в лицо американского обывателя (кстати, приютившего в тот период эмигранта Э. Лимонова-Савенко) квинтэссенцией интеллектуальной грязи, замешанной на острейших социально-психологических табу.
Э. Лимонов – яркий писатель-постмодернист (Тищенко, 2021), порой использующий в своих текстах литературный прием подачи неструктурированных потоков сознания. Значит, его тексты нельзя понимать буквально и трактовать инструментарием прямолинейности, логики, рациональности. Сложно сказать однозначно, уместна ли здесь прямая аналогия с суфийскими притчами, которые тоже не каждый поймет – простолюдин увидит лишь оболочку и будет тем доволен, а посвященный и размышляющий человек доберется до сути подтекста. Книгой «Это я – Эдичка» разочарованный в американском бытии автор-эмигрант преследовал целью ранить в глубину души обывателя общества потребления, покоробить пресловутый wasp-истеблишмент (Сьветлик, 2018). В начале книги Э. Лимонов откровенно издевается над своим американским читателем такими тезисами: раз заманили меня в США пропагандой своего образа жизни, так теперь я вам на шею с удовольствием сяду и буду всячески куражиться, вы будете мне пособие платить, а я еще над вами посмеюсь, а если получится, то и нанесу вред вашему государству подрывной леворадикальной борьбой... Кажется, автор буквально вопрошает со своих страниц читающую аудиторию: «Кого же вы к себе вывезли и зачем? И ведь я не исключение», – уточняет автор. Это общий случай советской эмиграции никчемных и озлобленных людей, севших теперь на американский бюджет.
Э. Лимонов тщательно вырисовывает максимально безобразный образ эмигранта, совершенно не нужного Америке и даже вредного ей. А какие отвратительные образы можно было привести американскому читателю 70-х – 80-х годов ХХ века, чтобы его оскорбить? Воспевание наркотических грез? А кого этим удивишь после Эбби Хоффмана с его «Нацией Вудстока», использующей в качестве эмблемы лист конопли? Алкоголизм? Тоже не то – давно ставший привычным для западного обывателя стереотип по отношению к русским. И тогда Э. Лимонов литературными образами избрал межрасовый гомосексуализм, намеки на педофилию и т.д., чем сознательно хотел вызвать максимально неприязненные отношения со стороны сытого и дородного американского «буржуя-обывателя». Показательно, что по тексту анализируемого произведения автор неоднократно угрожает, что при первой же возможности он разрушит уютный мир американского обывателя, так «неосмотрительно» допустивший его на свою территорию. Однако в полной мере странный сплав биографических, художественных, публицистических книг и эссе Э. Лимонова обрушился именно на российскую молодежь в 90-е годы, причем где жизненная правда, а где литературный вымысел, где серьезный социально-политический анализ, а где откровенная ирония и глум в его произведениях, неискушенной публике разобраться было невозможно. Но именно это и привлекало.
Для вдохновителей современных экстремистских движений и радикальных протестных субкультур презрение к «овощу-обывателю» (на сленге лимоновских нацболов «овощ» – духовно деградировавший человек, чья жизнь убога по своим интересам и целиком встроена в формат массовой культуры, «овощ» не предпринимает попыток к изменению ситуации, соглашаясь со своей участью) гармонично укладывается в мессианское мировоззрение, восприятие самого себя как пассионарного субъекта социума, назначенного судьбой противостоять инертной людской массе, не только не приносящей пользы, но и способной фатально замедлить исторический прогресс. Выход за рамки убогого «здесь-бытия» возможен методом разрыва социальных контактов с духовно выродившимися институтами современного общества: разрыва с семьей (отец – неудачник и пьяница, все упустивший в жизни, мать – бесполезная истеричка, оба «программируют» жизнь своего ребенка на рутинный примитивный быт), с системой образования (учителя – сборище профессионально некомпетентных надсмотрщиков, чьей единственной задачей является уничтожение в своих питомцах любой самостоятельности, нонконформизма и творчества).
В качестве альтернативы предлагается некое привилегированное «братство», полное романтики и нацеленности на личностный рост и борьбу, доступ в которое открыт далеко не всем и сопряжен с выполнением ряда формальных и неформальных условий. Именно из такой среды генерируются молодые участники акций прямого действия, не только готовые идти на опасные действия, но и сознательно увеличивающие риск ответных репрессий по политическим мотивам по отношению к себе. Характерный пример – Андрей Сухорода, будущий лидер террористической группировки «Приморские партизаны», вдохновленный книгами Э. Лимонова в возрасте шестнадцати лет (прихватив с собой двенадцатилетнюю родственницу) отправился с Дальнего Востока в Москву без денег, без знакомств, просто вдохновленный идеализированным в своем сознании образом нацбольской коммуны-«бункера», населенной интеллектуальными бунтарями, противостоящими косной массе обывателей и сумевшими вырваться из рядов этой массы, возвыситься над ней. Но в Москве будущего террориста постигло разочарование – «бункер» нацболов действительно существовал, но собиравшееся там общество было слишком далеко от его ожиданий1.
Характеризуя теоретический базис лимоновского национал-большевизма, профессор И.А. Ветренко отмечает: «Это политическое учение пытается объединить в себе несоединимое и зачастую противоположное, а именно – их идеология основана на консенсусе крайне левых и крайне правых взглядов» (Ветренко, 2018: 93). Национал-большевистская партия Э. Лимонова, аккумулировавшая в своих рядах политически активную молодежь (преимущественно леворадикальных взглядов, хотя в стереотипах СМИ ее представляли едва ли не неофашистами), прославившаяся эпатажными протестными акциями во второй половине 90-х годов, вышла на столь заметный пик популярности, что породила у своего вождя надежды на политическую победу в рамках электоральной борьбы. Однако стремительное укрепление персоналистского политического режима Владимира Путина быстро разрушило эти иллюзии. НБП была не только отстранена от института политических выборов, но и подверглась запрету, а против ее активистов начали успешно работать государственные правоохранительные структуры.
Оказавшись полностью маргинализированными, утратив даже иллюзорную веру в возможность легитимного проникновения хотя бы в среднее звено российской представительной власти, протестно-радикальное политическое движение Э. Лимонова стало повторять судьбу своих западноевропейских аналогов времен «студенческой революции» 60–70-х годов ХХ века – распадаться, деструктурироваться, терять пассионарность, а в конечном итоге тактически уходить «вправо», блокируясь с либеральной оппозицией Касьянова-Каспарова. Но если европейские «новые левые» в стадии распада все же ухитрились выплеснуть из своих рядов несколько небольших радикалистских группировок, оказавшихся способными перейти непосредственно к террористической деятельности (упоминавшаяся выше «Фракция Красной Армии»), то в российских реалиях этого удалось избежать. Значительной угрозы для государства и общества ультралевые политические террористы в нулевые годы ХХ века составить не смогли и лишь в последующее десятилетие анархисты дали о себе знать одиночными террористическими актами1.
Постмодерн трансформировал ключевые тренды социально-политического, экономического, культурного, психологического развития человеческой цивилизации. Серьезные преобразования претерпела и радикальная оппозиция – как по форме, так и по содержанию своих доктрин. На фоне российского политического процесса закономерным оказалось появление колоритной фигуры непримиримого политического бунтаря и эпатажного нарушителя моральных норм – лидера национал-большевистского движения, писателя, чьи фантазии материализовались в реальную политическую игру. Книги Э. Лимонова шокируют, возмущают, порождают желание протестовать против автора, вызывают чувство отторжения его как политического деятеля в том числе. Однако все не столь просто – как бунтарь-одиночка, воинствующий интеллектуал, бросающий вызов любой упорядоченной общественной системе, он и не стремился добиться расположения широких народных масс, наоборот, не скрывал своего презрения к ним2. И в этом была его обреченность как политика.
Национал-большевизм в лимоновской подаче – это не столько политическая доктрина, сколько протестное иррационалистическое мировоззрение, альтернативный образ жизни, виртуальный мир фантазий и химер, увлекший определенную часть российской молодежи. Полезно вспомнить, что теоретические основы национал-большевизма были заложены отнюдь не Э. Лимоновым, но задолго до него, например, Н. Устряловым (2003) и М. Агурским (1980). Здесь можно наблюдать аналогию с марксизмом: есть марксизм как идеология, а есть масса радикальных про-марксистских организаций и группировок на основе этой идеологии.
Б.Н. Ельцин относился к деятельности НБП с неприязнью, но без целенаправленных репрессий (хотя наиболее одиозные нацболы и тогда несли правовую ответственность за последствия своих акций), а весь «уличный движ» напоминал феномен, именуемый «революционным карнавалом». Именно такой НБП осталась в воспоминаниях многих участников тех событий. И хотя Э. Лимонов свернул леворадикальный проект уже к концу первого десятилетия XXI века в праволиберальную сторону, он еще продолжал оказывать влияние на сознание части протестной российской молодежи, проявляясь в той или иной форме в будущем как российская антиглобалистская ветвь.
Но неизбежно наступила фаза раскола. Из мировоззренческого конгломерата «лимонов-цев» рождались различные политические течения, в том числе со ставкой как на радикальные русско-националистические лозунги, так и на левацкую линию, выступая под идеей вернуть партию к ее «первоистокам», якобы преданным самим вождем. Антилимоновские «раскольники», возможно при негласной поддержке государственных структур, вполне имели шанс на успех ме-дийно «раскрутить» какую-то фигуру нового уличного «вожденка» в паре с воинствующим демагогом из мелких политиков, а затем и перехватить у Э. Лимонова влияние на националистически настроенную аудиторию. Однако этого уже не потребовалось.
Как политик, Э. Лимонов сам совершил серьезную ошибку оппозиционного вождя – стал решительно раскалывать и «чистить» свою партию до ключевого момента битвы за власть, а не после. Зачем НБП потребовалась преждевременная «чистка рядов»? Разве не могли в рамках одного движения продолжать сосуществовать националистическая фракция, ультралевацкая, либерально-демократическая, мусульманская, «шизополитическая» и им подобные субкультурные феномены? Но «революционный карнавал» не состоялся, закончился рутиной бесполезной предвыборной оргработы в бесплодных попытках встроиться в своеобразную системную «оппозицию Ее Величества», что удалось В. Жириновскому, но не удалось Э. Лимонову. В итоге «богемный повстанец» сперва неудачно поменял амплуа с радикала-практика (получившего обвинение в подготовке вооруженного мятежа и побывавшего за это в неволе) на образ публичного политика, а затем отошел от практической работы.
В заключение можно резюмировать, что протестная субкультура российского национал-большевизма конца ХХ – первого десятилетия ХХI веков была закономерным явлением с вполне востребованным, пусть и не в широких кругах, интеллектуальным продуктом. Финал ХХ века шел под глобальным знаменем неолевачества, образ которого выражал мексиканский Субкоманданте Маркос со своими сапатистами. Концепции Маркоса1 весьма перекликались с лимоновским пониманием протестной борьбы – максимум эпатажа, куража, взлома моральных табу, героизации борьбы при одновременном умелом избегании насилия и уж тем более жестокости по отношению к противнику. И Маркос, и Лимонов были востребованы в свое время прежде всего как теоретики новой левой идеи и в какой-то степени как политики-вожди. Новой и актуальной была концепция объединения в движение максимального количества самых вычурных субкультур, носители которых хотели хотя бы чем-то маркировать свое «я» от массы вросших в систему либерального миропонимания и материального потребления обывателей (Маркос даже не гнушался призывать в свои ряды инопланетян и загадочных «серопозитивных»). На фоне либерального варианта глобализации и адаптации к системе как содержания жизни среднего человека этот левый антиглобализм с привкусом революционной романтики представлял альтернативный путь развития социума. Проблема была в том, что ставка на социальную экзотику не могла привлечь в движение действительно широкие социальные массы. А затем с рубежа XXI века мир неожиданно для многих развернулся к иным трендам – рост военной напряженности и геополитического противостояния великих держав, религиозный терроризм, глобализация, «цветные революции» и связанные с ними вооруженные действия. Человечество входило в новый политический цикл, закономерной вехой которого стала военная спецоперация России, начатая в декабре 2022 года против украинского режима, что немедленно обернулось глобальным противостоянием с коллективным Западом. Леворадикальная экзотика в этих условиях отошла на второй план – временно, как нам представляется. Итогом этого цикла неизбежно станет резкое падение жизненного уровня широких социальных слоев, безработица, инфляция, новые миграционные волны, а значит неизбежна актуализация идеи социальной справедливости в будущем.
Список литературы Обыватель versus бунтарь в идеологии радикальных протестных субкультур (на примере НБП Эдуарда Лимонова)
- Агурский М.С. Идеология национал-большевизма. P., 1980. 326 с.
- Ветренко И.А. Эдуард Лимонов о национал-большевизме и политических прогнозах на будущее России // Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт. Омск, 2018. С. 93-97.
- Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. 183 с.
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2002. 526 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001. 509 с.
- Сьветлик А. Одиночество в романе "Это я - Эдичка" Эдуарда Лимонова // Художественный текст глазами молодых. Ярославль, 2018. С. 128-132.
- Тищенко Е.Ю. Публицистика Эдуарда Лимонова в сборнике "Русское психо" // Творчество В.И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, литературы, журналистики, истории. Краснодар, 2021. С. 326-329.
- Устрялов Н. Национал-большевизм. М., 2003. 653 с.