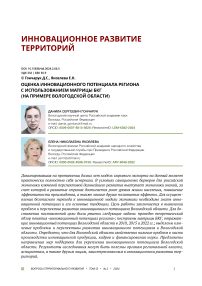Оценка инновационного потенциала региона с использованием матрицы БКГ (на примере Вологодской области)
Автор: Гончарук Д.С., Яковлева Е.Н.
Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran
Рубрика: Инновационное развитие территорий
Статья в выпуске: 2 т.12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Доминировавшая на протяжении долгих лет модель сырьевого экспорта на данный момент практически полностью себя исчерпала. В условиях санкционных барьеров для российской экономики ключевой перспективой дальнейшего развития выступает экономика знаний, за счет которой в развитых странах достигается рост уровня жизни населения, повышение эффективности производства, а также многие другие позитивные эффекты. Для осуществления безопасного перехода к инновационной модели экономики необходимо знать инновационный потенциал и его основные тенденции. Цель работы заключается в выявлении проблем и перспектив развития инновационного потенциала Вологодской области. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проведен теоретический обзор понятия «инновационный потенциал региона»; построены матрицы БКГ, отражающие инновационный потенциал Вологодской области в 2010, 2015 и 2022 гг.; выделены ключевые проблемы и перспективы развития инновационного потенциала в Вологодской области. Определено, что для Вологодской области свойственно наличие проблем в части производства инновационной продукции, кадров и финансирования науки. Предложены направления мер поддержки для укрепления инновационного потенциала Вологодской области. Результаты исследования могут быть полезны органам региональной власти, аспирантам, а также другим лицам, заинтересованным в инновационном развитии территорий.
Инновационный потенциал, экономика знаний, матрица бкг, innovation capability, bsg matrix
Короткий адрес: https://sciup.org/147247162
IDR: 147247162 | УДК: 332 | DOI: 10.15838/tdi.2024.2.66.5
Текст научной статьи Оценка инновационного потенциала региона с использованием матрицы БКГ (на примере Вологодской области)
Многие годы в научном сообществе не теряет актуальности вопрос перехода российской экономики с сырьевой модели на научно-инновационную. Лидеры технологического развития мирового уровня формируют значительную часть ВВП за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, которая формируется с использованием передовых разработок фундаментальной науки. По данным международных инновационных рейтингов, таких как WIPO, Россия занимает в среднем 50-е место в мире, что подтверждает наличие разрыва в уровне ее технологического развития с передовыми экономиками других стран.
В майском указе 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из целей Президент РФ назвал технологическое лидерство страны1. Важно понимать, что большую роль в инновационном и технологическом развитии России играют северо-западные территории, так как, с одной стороны, они имеют транспортные пути, по которым ранее шел поток европейских технологий, с другой – развитую промышленность, требующую нововведений для качественного и количественного роста объема производства.
Одним из представителей СЗФО является Вологодская область, находящаяся между двумя крупнейшими агломерациями Российской Федерации (г. Москва и г. Санкт-Петербург). Выгодное территориальное расположение обеспечивает доступность импорта технологий в регион, чему способствуют налаженные транспортные коммуникации. ВРП области за 2023 год составил 1061 млрд руб., прирост к предыдущему году в сопоставимых ценах – порядка 2,1%2. Такой объем ВРП более чем на половину формируется за счет обрабатывающей промышленности (51,6% в 2022 году), наиболее развитые отрасли производства региона – черная металлургия, дерево- и металлообработка, машиностроение, химическая и пищевая промышленность.
После февраля 2022 года большинство процессов сотрудничества с европейскими партнерами осложнилось или полностью прекратилось, что нашло отражение в организации инновационной деятельности, торговом балансе регионов и множестве других социально-экономических индикаторов. Несмотря на параллельный импорт, приобретение технологий за рубежом крайне затратно, что подталкивает инновационно активные организации к созданию и (или) поиску новшеств на внутреннем рынке. Однако для создания новых технологий на внутреннем рынке необходимо знать инновационный потенциал территории, а также возможные проблемы и перспективы инновационной деятельности в нем. В связи с этим актуален вопрос исследования инновационного потенциала Вологодской области как промышленного центра Северо-Запада России. Цель работы заключается в выявлении проблем и перспектив инновационного потенциала Вологодской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществить теоретический обзор понятия «инновационный потенциал региона»;
– провести оценку инновационного потенциала Вологодской области с помощью матриц БКГ;
– выявить ключевые проблемы реализации и возможные перспективы укрепления инновационного потенциала Вологодской области.
Обзор литературы
Вопросы инновационного развития регионов давно затрагиваются в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Начиная с 2000 года в российской науке существенно увеличилось количество публикаций, связанных с экономикой знаний, что позволило сформировать обширную теоретическую базу. Однако существуют разные подходы к определению понятия «инновационный потенциал региона» (далее – ИПР).
В ранних работах ИПР часто понимается как организованная совокупность условий и ресурсов, которые обеспечивают производство текущей инновационной продукции и дают возможности ведения инновационной деятельности и расширенного воспроизводства национальной инновационной системы и ее инфраструктуры (Бендиков, Хрусталев, 2007). Однако в некоторых исследованиях встречается определение ИПР как возможности для выполнения той или иной работы, произведения товаров и оказания услуг, которые реализуются субъектом в интересах собственного развития (Жиц, 2008).
В одной из самых цитируемых отечественных работ, относящихся непосредственно к ИПР, исследователи агрегировали более ранние понятия: по их мнению, ИПР – возможность и способность региона формировать и использовать инновационные ресурсы, необходимые для инновационного развития, что позволяет региону создавать, распространять и применять различного вида новшества (Маскайкин, Арцер, 2009).
М.Ю. Малкина пишет о ИПР как о накопленном капитале, который постепенно вовлекается в инновационный процесс, при этом такой капитал является результатом деятельности по формированию предпосылок инновационного развития (Малкина, 2011), из чего можно сделать вывод о цикличности инновационного процесса и взаимосвязи ИПР с инновационными затратами и получаемыми впоследствии результатами. Н.Н. Нестерова говорит о том, что ИПР представлен ресурсами, мобилизованными на достижение инновационной цели, и организационным механизмом (Нестерова, 2012).
В процессе литературного обзора были изучены современные зарубежные научные труды, позволившие взглянуть на исследуемый объект с другой стороны. Например, в работе (Hauge et al., 2018) показано наличие технологической специализации стран и регионов, которая характеризуется постепенным переходом к более сложным и ценным технологиям. Интерес вызывает исследование китайских ученых, оценивших эффективность инноваций в 283 городах Китая на основе затрат капитала и результатов патентов (и научных работ), что позволило сделать вывод о высокой эффективности инноваций на восточных территориях и о низкой эффективности инноваций в центре и на западе страны (Fan et al., 2019). Исходя из результатов работы других китайских исследователей, отметим, что цифровая экономика может способствовать качественному развитию региональных экономик Китая, а государство должно содействовать росту предложения цифровых технологий и инноваций (Ding et al., 2022). Исследование человеческого фактора в инновационном потенциале региона показало существенную роль уровня образования и профессиональной подготовки как предиктора инноваций (Martinidis et al., 2022).
Обращаясь к классической научной литературе, стоит выделить публикации Й. Шумпетера и прочих экономистов теории инновационного менеджмента, которые помогли глубже понять суть инно- вационных процессов (Freedman, 1983; Schumpeter, 1989; Padmore, Gibson, 1998). Ранее упомянутые технологические специализации существуют в рамках технологических укладов, смена которых служит одним из основополагающих факторов роста экономики (Кондратьев и др., 2002). Также были изучены труды сторонников теории цифровой экономики, тесно связанной с инновационным и технологическим развитием территории (Бабкин, Чистякова, 2017; Грибанов, Шатров, 2019; Heeks, Bailur, 2007).
Стоит отметить, что не были обойдены стороной современные отечественные исследования. Так, статья К.А. Семячкова посвящена использованию концепции умного города в приращении ИПР, позволяющей сделать вывод о повышенных темпах накопления и реализации инновационного потенциала в таких агломерациях (Семячков, 2021). Помимо этого, процессы ускоренного накопления и реализации инновационного потенциала также проходят с помощью новых акторов инновационной среды, к примеру малых научно-сервисных компаний (Алексеев, 2024). Необходимо выделить опыт рассмотрения ИПР как фактора развития предпринимательства, доказывающий факт положительного влияния ИПР на развитие регионального предпринимательства, в том числе в Вологодской области (Иванов, Устинова, 2021). Интересен труд, в котором сравниваются ключевые особенности развития инновационных центров северных стран Запада и Европейского Севера России (Кожевников, 2021). Исходя из полученных результатов, северные регионы можно назвать проблемными в контексте инновационного развития. Исследование Е.В. Лукина позволяет говорить о важности инновационного развития в формировании цепочек создания стоимости (Лукин, 2023). Так как инновационная деятельность часто осуществляется на крупных предприятиях, которые тем самым сокращают издержки и увеличивают объемы выпускаемой продукции, необходимо учитывать их влияние на бюджет региона и муници- палитетов (Печенская-Полищук, Малышев, 2021). О развитости транспортной отрасли в Вологодской области позволяет судить исследование А.Ю. Кудревич, из которого можно сделать вывод, что динамика грузооборота различными видами транспорта смогла обойти высокое санкционное давление и нормализоваться в относительно быстрый срок (Кудревич, 2024).
В настоящей работе приведено лишь несколько трактовок ИПР, однако они демонстрируют разнонаправленность научной мысли. За базовое понятие нами принимается вариант, предложенный Е.П. Маскайкиным и Т.В. Арцер, так как он интегрирует ресурсную и результирующую характеристики, которые помогают сформировать комплексное представление об ИПР. Стоит отметить, что ИПР играет существенную роль в формировании продукции с высокой добавленной стоимостью и в наполнении бюджетов различных уровней. Таким образом, мы пришли к выводу, что ИПР является важной составляющей социальноэкономического развития региона, способствующей экономическому росту территории и мультипликативному эффекту для других отраслей.
Материалы и методы
При написании статьи применялись общенаучные методы анализа и синтеза, статистический и графический методы. Основным источником статистических данных выступает Росстат. Для исследования ИПР в ретроспективе взяты три отдельных непоследовательных года: 2010, 2015 и 2022. Исходя из того что полученные результаты необходимо сопоставлять с показателями других территорий для формирования целостной картины реальной действительности, был оценен ИПР не только Вологодской области, но и остальных регионов СевероЗападного федерального округа за исключением Ненецкого автономного округа. Исключение Ненецкого автономного округа обусловлено наличием особенностей, которые могут исказить получаемые результаты, и отсутствием части статистики. Особенностями этого субъекта являются малая численность населения и крайне высокие объемы инвестиций из-за специализации на нефтедобывающей отрасли.
В соответствии с ранее обозначенным подходом к пониманию ИПР показатели разделены на два компонента – ресурсный и результирующий (табл. 1). Основой для распределения показателей стали факторы формирования регионального инновационного потенциала (далее – РИП), которые получили наибольшую значимость при факторном анализе (Мерзлякова, 2015). Однако мы изменили часть показателей ввиду частичного устаревания методики.
Таблица 1. Показатели инновационного потенциала региона
|
Ресурсный компонент |
||
|
Ресурс |
П |
Показатель |
|
Кадровый |
1 |
Численность аспирантов на 10 тыс. занятых в экономике, чел. |
|
2 |
Численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике, чел. |
|
|
3 |
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, % |
|
|
4 |
Численность исследователей с научной степенью в общей численности исследователей, % |
|
|
Материальнотехнический |
5 |
Инновационная активность организаций, % |
|
6 |
Число организаций, выполнявших ИиР, ед. |
|
|
7 |
Наличие основных фондов на душу населения, млн руб. |
|
|
8 |
Индекс промышленного производства, % |
|
|
Финансовый |
9 |
Внутренние затраты на НИОКР в ВРП, % |
|
10 |
Затраты на инновационную деятельность в ВРП, % |
|
|
11 |
Инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |
|
|
Результирующий компонент |
||
|
П |
Показатель |
|
|
12 |
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, % |
|
|
13 |
Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, на 1 млн чел. населения, ед. |
|
|
Составлено по: (Мерзлякова, 2015). |
||
В первую очередь индикатор «отношение персонала, занятого ИиР (исследованиями и разработками), к численности занятых в экономике» следует заменить показателем, отражающим численность исследователей. Такой сдвиг направлен на учет специалистов, которые непосредственно генерируют научные исследования и разработки, в отличие от обобщенного показателя занятых в сфере. Показатель «численность студентов на 10 тыс. чел. населения на конец года» рекомендуется пересмотреть, сосредоточившись не на общей численности студентов, а конкретно на аспирантах, чаще участвующих в исследованиях и разработках. Показатели кадрового ресурса также стоит дополнить индикатором, отражающим число молодых научных кадров.
В части материально-технического ресурса показатель «отношение числа организаций, выполнявших научные ИиР, к общему числу предприятий и организаций» переведен в абсолютный для оценки масштабов научно-технической деятельности. Считаем, что стоит дополнить этот ресурс индикатором инновационной активности организаций для учета их вовлеченности в разработку и внедрение технологий. Для оценки производительных возможностей организаций предлагаем использовать индекс промышленного производства, а также отразить материальные ресурсы через индикатор «наличие основных фондов» в сопоставимом виде на 1 жителя региона.
В части финансовых показателей, по нашему мнению, стоит учитывать не только затраты на технологические инновации, но и затраты на инновационную деятельность в целом, так как не учитываются организационные, маркетинговые и управленческие инновации, которые могут существенно влиять на инновационный процесс. На наш взгляд, инвестиционные показатели можно обобщить через использование расчета инвестиций в основной капитал на душу населения.
Результирующая компонента представлена числом патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, на 1 млн чел. населения и долей инновационных продуктов в общем объеме отгруженных продуктов. На наш взгляд, эти индикаторы наиболее обобщенно отражают результаты научно-технологической сферы в регионе.
В работе Е.А. Мерзляковой информационно-инновационные показатели при факторном анализе получили наименьшее влияние на формирование ИПР, из чего предполагаем, что наличие персональных компьютеров и доступа к глобальным информационным сетям не является существенной проблемой, учитывая текущий научно-технический прогресс и уровень цифровизации. Стоит отметить, что ввиду геополитической обстановки часть показателей, отражающих разработку и использование передовых технологий, не публикуется Росстатом, поэтому они не включены в результирующий компонент.
По выделенным показателям собирались официальные данные, после чего регионы ранжировались методом рангового порядка. Для графического представления получаемых результатов использовалась модифицированная матрица Бостонской консалтинговой группы (далее – БКГ), где по оси абсцисс откладывался средний ранг региона по ресурсным показателям R 1 (П 1–11, см. табл. 1), а по оси ординат средний ранг по результирующим показателям R 2 (П 12–13, см. табл. 1). В табл. 2 дана интерпретация квадрантов матрицы БКГ, а в скобках приведены классические названия квадрантов.
Таблица 2. Интерпретация модифицированной матрицы БКГ
|
II квадрант (Вопросительные знаки) Низкие ресурсы – высокие результаты |
I квадрант (Звезды) Высокие ресурсы – высокие результаты |
|
III квадрант (Собаки) Низкие ресурсы – низкие результаты |
IV квадрант (Дойные коровы) Высокие ресурсы – низкие результаты |
|
Составлено по: (Mohajan, 2017). |
|
Результаты и обсуждение
Согласно методологии исследования, на первом этапе были собраны данные по показателям ИПР Вологодской области и субъектов СЗФО за 2010, 2015 и 2022 гг. Прежде всего стоит отметить весомые изменения в части кадровых показателей (табл. 3). Численность исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Вологодской области выросла с 5,5 чел. в 2010 году до 8,6 в 2022 году. Важно упомянуть, что численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в регионе с 1992 по 2018 год сократилась почти на 70% (Кожевников, 2021). Доля молодых научных кадров была самой высокой в СЗФО в 2010 году (61,8%) и осталась на том же
Таблица 3. Динамика значений показателей кадрового ресурса инновационного потенциала в регионах СЗФО в 2010, 2015 и 2022 гг.
|
Территория |
Показатель |
|||||||||||
|
численность аспирантов на 10 тыс. занятых в экономике (П1), чел. |
численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике (П2), чел. |
доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей (П3), % |
численность исследователей с научной степенью в общей численности исследователей (П4), % |
|||||||||
|
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
|
|
Республика Карелия |
13,8 |
6,8 |
5,9 |
14,2 |
18,8 |
18,2 |
41,0 |
41,6 |
39,8 |
65,7 |
68,2 |
64,4 |
|
Республика Коми |
8,1 |
5,4 |
6,7 |
23,6 |
27,0 |
20,8 |
47,0 |
48,8 |
30,6 |
39,4 |
41,7 |
63,2 |
|
Архангельская область |
8,5 |
6,2 |
9,9 |
12,0 |
13,7 |
13,9 |
40,7 |
49,3 |
49,0 |
21,2 |
24,9 |
27 |
|
Вологодская область |
11,2 |
4,4 |
4,9 |
5,5 |
7,3 |
8,6 |
61,8 |
57,6 |
60,4 |
22,0 |
35,7 |
21,7 |
|
Калининградская область |
14,7 |
12,9 |
9,5 |
13,2 |
15,1 |
18,6 |
31,4 |
39,6 |
56,1 |
18,6 |
26,9 |
27,4 |
|
Ленинградская область |
1,0 |
0,3 |
0,4 |
34,3 |
33,7 |
29,8 |
25,6 |
31,4 |
34,6 |
22,8 |
22,6 |
16,9 |
|
Мурманская область |
13,4 |
6,8 |
6,0 |
21,6 |
26,7 |
25,4 |
29,9 |
37,9 |
35,9 |
52,0 |
50,0 |
48,1 |
|
Новгородская область |
8,1 |
7,1 |
5 |
16,2 |
28,0 |
21,9 |
35,4 |
55,9 |
50,2 |
5,3 |
8,6 |
4,8 |
|
Псковская область |
7,5 |
4,7 |
5,4 |
5,5 |
21,7 |
3,6 |
39,4 |
32,4 |
53 |
38,9 |
57,1 |
26,0 |
|
Санкт-Петербург |
55 |
39,0 |
36,8 |
176,6 |
135,7 |
112,2 |
34,6 |
43,0 |
45,5 |
25,9 |
25,1 |
25,2 |
Составлено по: данные Росстата.
уровне в 2022 году (60,4%). Практически не изменилась доля исследователей с научными степенями в общей численности исследователей: 22% в 2010 году и 21,7% в 2022 году. Крайне негативный тренд можно отметить при обращении к численности аспирантов в расчете на 10 тыс. чел. населения: значение показателя снизилось более чем в два раза с 11,2 чел. в 2010 году до 4,9 чел. в 2022 году.
В части материально-технического ресурса наблюдается рост инновационной активности на 1,9 п. п., однако такой уровень инновационной активности вологодских организаций (9,3% в 2022 году) все еще ниже среднего по стране (11% в 2022 году; табл. 4). Количество организаций, выполнявших ИиР, остается практически неизменным, увеличившись на 1 ед. за 13 лет; доля основных фондов на душу населения выросла в два раза за тот же промежуток времени. Индекс промышленного производства в Вологодской области сократился на 15,2 п. п., что вызвано процессами пере-
Таблица 4. Динамика значений показателей материально-технического ресурса инновационного потенциала в регионах СЗФО в 2010, 2015 и 2022 гг.
|
Территория |
Показатель |
|||||||||||
|
инновационная активность организаций (П5), % |
число организаций, выполнявших ИиР (П6), ед. |
наличие основных фондов на душу населения (П7)*, млн руб. |
индекс промышленного производства (П8), % |
|||||||||
|
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
|
|
Республика Карелия |
6,6 |
7,2 |
5,5 |
16 |
22 |
19 |
0,6 |
0,6 |
1,1 |
108,9 |
98,9 |
93,1 |
|
Республика Коми |
7,5 |
5,2 |
10,7 |
23 |
28 |
23 |
1,4 |
2,1 |
2,9 |
100,8 |
102 |
104,6 |
|
Архангельская область |
9,4 |
5,9 |
5,2 |
29 |
32 |
28 |
0,6 |
0,6 |
1,3 |
122 |
111,1 |
95,5 |
|
Вологодская область |
7,4 |
5,5 |
9,3 |
17 |
18 |
18 |
0,7 |
0,8 |
1,4 |
111,8 |
102,1 |
96,6 |
|
Калининградская область |
3,2 |
4,1 |
5,7 |
11 |
16 |
18 |
0,4 |
0,4 |
1,1 |
116 |
91,8 |
77,3 |
|
Ленинградская область |
9,4 |
10,1 |
7,1 |
14 |
13 |
19 |
0,7 |
1 |
1,6 |
114,3 |
99,8 |
96,8 |
|
Мурманская область |
9,7 |
9,4 |
10,3 |
25 |
31 |
37 |
1,0 |
1,6 |
2,3 |
103,2 |
103,6 |
95,9 |
|
Новгородская область |
8,7 |
8,9 |
9,9 |
12 |
17 |
15 |
0,4 |
0,5 |
1,2 |
116,1 |
100,6 |
92,5 |
|
Псковская область |
9,6 |
7 |
9,9 |
13 |
13 |
13 |
0,4 |
0,3 |
0,7 |
117,4 |
103,4 |
99,4 |
|
Санкт-Петербург |
13 |
17,2 |
15 |
338 |
299 |
363 |
0,5 |
0,6 |
1,9 |
107,8 |
95,2 |
106,1 |
* В ценах 2010 года.
Составлено по: данные Росстата.
Таблица 5. Динамика значений показателей финансового ресурса инновационного потенциала в регионах СЗФО в 2010, 2015 и 2022 гг.
|
Территория |
Показатель |
||||||||
|
внутренние затраты на НИОКР в ВРП (П9), % |
число организаций, выполнявших ИиР (П10), % |
инвестиции в основной капитал на душу населения (П11)*, тыс. руб. |
|||||||
|
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
|
|
Республика Карелия |
0,47 |
0,5 |
0,35 |
1,76 |
0,06 |
1,41 |
35,3 |
33,4 |
75,1 |
|
Республика Коми |
0,45 |
0,45 |
0,25 |
0,29 |
0,16 |
0,65 |
124 |
125,5 |
68 |
|
Архангельская область |
0,3 |
0,35 |
0,28 |
0,24 |
0,37 |
0,21 |
81 |
31,7 |
46,1 |
|
Вологодская область |
0,11 |
0,08 |
0,1 |
0,96 |
0,12 |
0,18 |
56,9 |
44,5 |
63,2 |
|
Калининградская область |
0,61 |
0,33 |
0,3 |
0,09 |
0,3 |
0,4 |
59,4 |
42,5 |
47,3 |
|
Ленинградская область |
0,9 |
0,89 |
0,61 |
1,19 |
1,49 |
2,19 |
162,9 |
73,9 |
115,6 |
|
Мурманская область |
0,86 |
0,63 |
0,31 |
1,08 |
0,31 |
0,41 |
48,5 |
83,9 |
162,6 |
|
Новгородская область |
0,56 |
0,68 |
0,48 |
0,93 |
0,78 |
1,34 |
62 |
69,1 |
42,1 |
|
Псковская область |
0,07 |
0,25 |
0,08 |
0,19 |
0,15 |
0,35 |
24,7 |
25,2 |
29,2 |
|
Санкт-Петербург |
3,48 |
3,24 |
1,45 |
1,17 |
2 |
1,31 |
82,5 |
54,2 |
75,3 |
* В ценах 2010 года.
Составлено по: данные Росстата.
Таблица 6. Динамика значений показателей результирующего компонента инновационного потенциала в регионах СЗФО в 2010, 2015 и 2022 гг.
|
Территория |
Показатель |
|||||
|
доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг (П12), % |
число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, на 1 млн чел. населения (П13), ед. |
|||||
|
2010 год |
2015 год |
2022 год |
2010 год |
2015 год |
2022 год |
|
|
Республика Карелия |
1,3 |
0,2 |
2,9 |
23,3 |
34,9 |
51,1 |
|
Республика Коми |
3,2 |
3,3 |
1,3 |
30 |
47,9 |
35,8 |
|
Архангельская область |
0,8 |
4,5 |
2,9 |
18 |
55,7 |
50,8 |
|
Вологодская область |
1,6 |
21,6 |
0,7 |
59,1 |
59,8 |
52,3 |
|
Калининградская область |
0,1 |
0,4 |
0,7 |
58,4 |
47,1 |
42,6 |
|
Ленинградская область |
2,4 |
2 |
3,3 |
45,4 |
29,2 |
27,7 |
|
Мурманская область |
0,5 |
1,7 |
15,4 |
44,1 |
42 |
36,4 |
|
Новгородская область |
6,9 |
3,9 |
7,7 |
20,5 |
66,6 |
50,4 |
|
Псковская область |
2,7 |
1,1 |
0,4 |
23,8 |
51,1 |
44,2 |
|
Санкт-Петербург |
8 |
7,3 |
8,0 |
270,2 |
291,1 |
267,5 |
Составлено по: данные Росстата.
ориентации отечественных организаций на внутренний рынок, в том числе за счет падения спроса у недружественных стран-импортеров.
Стоит выделить тренды в финансовом аспекте, который крайне важен не только для науки и инноваций, но и для любой сферы в принципе. Затраты на НИОКР в ВРП региона снизились на 0,01 п. п. по отношению к 2010 году; при этом абсолютное значение показателя Вологодской области (0,10% в 2022 году) в 10 раз меньше сопоставимого общероссийского индикатора затрат на науку в размере 1% от валового продукта. Затраты на инновационную деятельность в ВРП также сократились, однако в гораздо большем объеме, с 0,96% в 2010 году до 0,18% в 2022 году (табл. 5) . Наблюдается рост инвестиций на душу населения на 11% за 13-летний промежуток; при этом стоит отметить падение показателя в 2015 году, которое было вызвано последствиями первых обширных пакетов санкций, полученных в 2014 году.
Касаясь результирующего компонента, в первую очередь выделим существенное падение инновационной продукции в об- щем объеме отгруженной продукции: более чем в 2 раза к 2010 году и более чем в 30 раз к 2015 году. Отметим, что значение данного показателя в 2015 году может быть выбросом, так как сильно отличается от других периодов, однако это не отменяет существенное сокращение к 2010 году. Число патентов на изобретения так же сократилось, однако оно выше, чем в остальных субъектах СЗФО, за исключением Санкт-Петербурга (табл. 6).
Следующим этапом исследования является ранжирование ранее описанных показателей (табл. 7) . Оно помогло определить позиции Вологодской области в СЗФО. Можно отметить, что во все исследуемые годы фиксируется отставание региона от других субъектов в части кадровых показателей, за исключением доли молодых исследователей, а также в аспекте затрат на НИОКР в ВРП. Аналогичную ситуацию дефицита кадрового ресурса можно наблюдать в Псковской и Ленинградской областях. Стоит выделить город федерального значения Санкт-Петербург, который лидирует по превалирующему числу показателей, что вызвано в том числе при-
Таблица 7. Ранговое ранжирование значений показателей инновационного потенциала регионов СЗФО в 2010, 2015 и 2022 гг.
|
Территория |
Показатель* |
R1** |
R2*** |
||||||||||||
|
П1 |
П2 |
П3 |
П4 |
П5 |
П6 |
П7 |
П8 |
П9 |
П10 |
П11 |
П12 |
П13 |
|||
|
2010 год |
|||||||||||||||
|
Республика Карелия |
3 |
6 |
3 |
1 |
9 |
6 |
5 |
7 |
6 |
1 |
9 |
7 |
8 |
5,1 |
7,5 |
|
Республика Коми |
7,5 |
3 |
2 |
3 |
7 |
4 |
1 |
10 |
7 |
7 |
2 |
3 |
6 |
4,9 |
4,5 |
|
Архангельская область |
6 |
8 |
4 |
8 |
4,5 |
2 |
6 |
1 |
8 |
8 |
4 |
8 |
10 |
5,4 |
9,0 |
|
Вологодская область |
5 |
9,5 |
1 |
7 |
8 |
5 |
4 |
6 |
9 |
5 |
7 |
6 |
2 |
6,0 |
4,0 |
|
Калининградская область |
2 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
9 |
4 |
4 |
10 |
6 |
10 |
3 |
7,2 |
6,5 |
|
Ленинградская область |
10 |
2 |
10 |
6 |
4,5 |
7 |
3 |
5 |
2 |
2 |
1 |
5 |
4 |
4,8 |
4,5 |
|
Мурманская область |
4 |
4 |
9 |
2 |
2 |
3 |
2 |
9 |
3 |
4 |
8 |
9 |
5 |
4,5 |
7,0 |
|
Новгородская область |
7,5 |
5 |
6 |
10 |
6 |
9 |
8 |
3 |
5 |
6 |
5 |
2 |
9 |
6,4 |
5,5 |
|
Псковская область |
9 |
9,5 |
5 |
4 |
3 |
8 |
10 |
2 |
10 |
9 |
10 |
4 |
7 |
7,2 |
5,5 |
|
Санкт-Петербург |
1 |
1 |
7 |
5 |
1 |
1 |
7 |
8 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3,5 |
1,0 |
|
2015 год |
|||||||||||||||
|
Республика Карелия |
4,5 |
7 |
6 |
1 |
5 |
5 |
7 |
8 |
5 |
10 |
8 |
10 |
9 |
6,0 |
9,5 |
|
Республика Коми |
7 |
4 |
4 |
4 |
9 |
4 |
1 |
5 |
6 |
7 |
1 |
5 |
6 |
4,7 |
5,5 |
|
Архангельская область |
6 |
9 |
3 |
8 |
7 |
2 |
6 |
1 |
7 |
4 |
9 |
3 |
4 |
5,6 |
3,5 |
|
Вологодская область |
9 |
10 |
1 |
5 |
8 |
6 |
4 |
4 |
10 |
9 |
6 |
1 |
3 |
6,5 |
2,0 |
|
Калининградская область |
2 |
8 |
7 |
6 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
6 |
7 |
9 |
7 |
7,4 |
8,0 |
|
Ленинградская область |
10 |
2 |
10 |
9 |
2 |
9,5 |
3 |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 |
10 |
5,4 |
8,0 |
|
Мурманская область |
4,5 |
5 |
8 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
4 |
5 |
2 |
7 |
8 |
3,8 |
7,5 |
|
Новгородская область |
3 |
3 |
2 |
10 |
4 |
7 |
8 |
6 |
3 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4,8 |
3,0 |
|
Псковская область |
8 |
6 |
9 |
2 |
6 |
9,5 |
10 |
3 |
9 |
8 |
10 |
8 |
5 |
7,3 |
6,5 |
|
Санкт-Петербург |
1 |
1 |
5 |
7 |
1 |
1 |
5 |
9 |
1 |
1 |
5 |
2 |
1 |
3,4 |
1,5 |
|
2022 год |
|||||||||||||||
|
Республика Карелия |
6 |
7 |
7 |
1 |
9 |
5 |
8 |
8 |
4 |
2 |
4 |
5 |
3 |
5,5 |
4,0 |
|
Республика Коми |
4 |
5 |
10 |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
8 |
5 |
5 |
7 |
9 |
4,4 |
8,0 |
|
Архангельская область |
2 |
8 |
5 |
5 |
10 |
3 |
6 |
7 |
7 |
9 |
8 |
5 |
4 |
6,4 |
4,5 |
|
Вологодская область |
9 |
9 |
1 |
8 |
6 |
7 |
5 |
5 |
9 |
10 |
6 |
8 |
2 |
6,8 |
5,0 |
|
Калининградская область |
3 |
6 |
2 |
4 |
8 |
7 |
9 |
10 |
6 |
7 |
7 |
8 |
7 |
6,3 |
7,5 |
|
Ленинградская область |
10 |
2 |
9 |
9 |
7 |
5 |
4 |
4 |
2 |
1 |
2 |
4 |
10 |
5,0 |
7,0 |
|
Мурманская область |
5 |
3 |
8 |
3 |
3 |
2 |
2 |
6 |
5 |
6 |
1 |
1 |
8 |
4,0 |
4,5 |
|
Новгородская область |
8 |
4 |
4 |
10 |
4 |
9 |
7 |
9 |
3 |
3 |
9 |
3 |
5 |
6,4 |
4,0 |
|
Псковская область |
7 |
10 |
3 |
6 |
4 |
10 |
10 |
3 |
10 |
8 |
10 |
10 |
6 |
7,4 |
8,0 |
|
Санкт-Петербург |
1 |
1 |
6 |
7 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
1 |
2,6 |
1,5 |
|
|||||||||||||||
током перспективных научных кадров из субъектов СЗФО и России в целом.
Полученные ранжированные значения были использованы для создания матриц БКГ. Как можно заметить, в 2010 году Вологодская область находилась во II квад- ранте (рис. 1), который характеризуется высокой результативностью с относительно малыми затратами ресурсов.
В оригинальной матрице БКГ, в которой оцениваются отдельные категории товаров или направления бизнеса, объекты, входя-
Результаты
II

I
-
♦ Республика Карелия a Вологодская область ♦ Мурманская область
-
■ Санкт-Петербург
Республика Коми
Калининградская область
Новгородская область
Архангельская область
Рис. 1. Матрица БКГ инновационного потенциала регионов СЗФО, 2010 год Источник: составлено авторами.
щие во II квадрант, нуждаются в дополнительных ресурсах и инвестициях для перехода в наиболее привлекательный, с точки зрения прибыли, I квадрант (Mohajan, 2017). В ином случае данные объекты перейдут в III квадрант, что будет означать упущенную возможность. Стоит отметить, что в 2015 году результативность ИПР Вологодской области – вторая в СЗФО (рис. 2) , после результативности ИПР Санкт-Петербурга, что должно было дать толчок к закреплению такого уровня через наращивание объема ресурсов.
Несмотря на положительную динамику 2010–2015 гг., наличие ранее описанных проблем, как мы считаем, породило ситуацию, когда ИПР Вологодской области перешел не в I высокорезультативный квадрант, а на границу с западающим III квадрантом (рис. 3) . Обращаясь к классическому варианту матрицы, отметим, что для объектов, входящих в III квадрант, свойственны постепенная ликвидация или урезание собственных возможностей в целях экономии
(Mohajan, 2017). Если учитывать существующую динамику и проецировать данное суждение на Вологодскую область, то возникает противоречие со словами Президента РФ о технологическом лидерстве страны, что означает необходимость укрепления ИПР не только Вологодской области, но и Псковской, Калининградской и Ленинградской областей.
Как было отмечено, на сегодняшний день у Вологодской области наблюдаются факторы, тормозящие процессы накопления и реализации собственного ИПР. По нашему мнению, именно крайне низкая доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции и наличие существенных проблем в кадровом и финансовом ресурсах затрудняют переход региона на конкурентоспособную позицию даже в рамках СЗФО. Стоит отметить, что полученные нами результаты соответствуют более ранним выводам, полученным в работах сотрудников ВолНЦ РАН. Например, М.А. Лебедева выделила кадры как одну
Результаты
II
III
I
Ресурсы
о
и
IV
-
♦ Республика Карелия
ЕЗ Вологодская область ♦ Мурманская область
-
■ Санкт-Петербург
-
▲ Республика Коми
о Калининградская область
-
▲ Новгородская область
Ф Архангельская область
® Ленинградская область
Рис. 2. Матрица БКГ инновационного потенциала регионов СЗФО, 2015 год
Источник: составлено авторами.
Результаты
II
I
О7
III
IV
-
♦ Республика Карелия
13 Вологодская область ♦ Мурманская область
-
■ Санкт-Петербург
-
▲ Республика Коми
и Калининградская область
А Новгородская область
-
• Архангельская область
-
• Псковская область
Рис. 3. Матрица БКГ инновационного потенциала регионов СЗФО, 2022 год
Источник: составлено авторами.
из проблем научно-производственной кооперации (Лебедева, 2023), а И.А. Крюков отметил низкие, по сравнению с другими регионами СЗФО, затраты на науку и инновации в Вологодской области (Крюков, 2023). Поэтому считаем, что для развития ИПР Вологодской области стоит выделить направления мер поддержки.
Ими могут стать инструменты финансовой поддержки молодежной науки, в числе которых увеличение объемов грантов и стипендий за счет использования федеральных средств бюджета в рамках национального проекта «Наука и университеты» и (или) расширения стипендиальной поддержки региональными органами исполнительной власти.
Для привлечения инвестиций в регион имеет смысл принять специальный стратегический документ – «Стратегию инновационного развития Вологодской области», а также дорожную карту ее реализации, что закрепит нацеленность региона на инновационное развитие и поможет привлечь внешние средства для финансирования научных исследований и разработок. При этом важно, чтобы данный документ формировался с учетом специфики российской инновационной системы в целом (Фонотов, 2023).
Для увеличения инновационной продукции стоит обратить внимание на развитие стартапов. Предлагается предоставлять начинающим предпринимателям персональных кураторов инновационных бизнес-проектов. Они будут оказывать всестороннюю консультационную поддержку, выступая в качестве единого центра поддержки. Кураторами могут быть успешные предприниматели-новаторы, представители исследовательских организаций или вузов со специализированными знаниями, сотрудники соответствующих правительственных подразделений. Расходы на оплату услуг кураторов будут покрываться из регионального бюджета. Такая инициатива поможет начинающим предпринимателям снизить риски, ускорить выход на прибыльность, сократить число банкротств и вдохновить изобретателей и разработчиков на реализацию своих инновационных идей.
В части усиления межрегионального инновационного сотрудничества предлагается проведение совместных ярмарок венчурных инвестиций, что поможет привлечь дополнительное финансирование для создания новых инновационных продуктов. На данном мероприятии предприниматели представляют свои проекты, а также участвуют в работе круглых столов. Власти региона могут обратиться к Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), которая имеет успешный опыт проведения венчурных ярмарок в Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показывает, что инновационный потенциал является важной составляющей региональной экономики и способствует ее непосредственному развитию. В работе проведена апробация метода стратегического планирования (матрица БКГ) для оценки инновационного потенциала Вологодской области и регионов СЗФО, что является элементом научной новизны. Полученные результаты позволили определить проблемы инновационного потенциала Вологодской области, которые сопряжены, в первую очередь, с финансированием науки, кадровой составляющей и низкими объемами производства инновационной продукции. Авторами предложены направления мер поддержки, среди которых развитие молодежной науки через увеличение объемов грантов и стипендий, расширение межрегионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий для укрепления инновационного потенциала и разработка документов стратегического планирования инновационного развития в регионе. Перспективой дальнейшего исследования является расширение географии изучаемых субъектов страны.
Список литературы Оценка инновационного потенциала региона с использованием матрицы БКГ (на примере Вологодской области)
- Алексеев А.А. (2024). Роль малых научно-сервисных компаний как нового субъекта инновационных экосистем // Проблемы прогнозирования. № 4. С. 179-190.
- Бабкин А.В., Чистякова О.В. (2017). Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность предпринимательских структур // Российское предпринимательство. № 24. С. 4087–4102.
- Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. (2007). Методологические основы исследования механизма инновационного развития в современной экономике // Менеджмент в России и за рубежом. № 2. С. 3–14.
- Грибанов Ю.И., Шатров А.А. (2019). Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии экономических систем // Вестник Алтайской академии экономики и права. № 3. С. 44–48.
- Жиц Г.И. (2008). Способности и ресурсы: продолжение рассуждений о методологии оценки инновационного потенциала социально-экономических систем различного уровня сложности // Инновации. № 5. С. 92–95.
- Иванов С.Л., Устинова К.А. (2021). Инновационный потенциал региона как фактор развития предпринимательства // Проблемы развития территории. № 5. С. 146–165.
- Кожевников С.А. (2021). Инновационное развитие Европейского Севера России в контексте интеграции экономического пространства страны // Проблемы развития территории. № 1. С. 123–137.
- Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. (2002). Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. Москва: Экономика. 550 с.
- Крюков И.А. (2023). Инновационное развитие предприятий предпринимательского сектора в разрезе регионов СЗФО // Стратегии бизнеса. № 2. С. 42–46.
- Кудревич А.Ю. (2024). Адаптация транспортной отрасли регионов СЗФО к условиям санкционного давления // Экономика. Социология. Право. № 3. С. 33–45.
- Лебедева М.А. (2023). Проблемы научно-производственной кооперации в регионах России (на примере Северо-Западного федерального округа) // Проблемы развития территорий. № 3. С. 113–129.
- Лукин Е.В. (2023). Экономика Северо-Запада России: в поисках перспективной специализации // ЭКО. № 8. С. 8–34.
- Малкина М.Ю. (2011). Институциональные ловушки инновационного развития российской экономики // JIS. № 1. С. 50–60.
- Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. (2009). Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Экономика и менеджмент. № 21. С. 47–53.
- Мерзлякова Е.А. (2015). Управление развитием инновационного потенциала региона: методический аспект // Социально-экономические явления и процессы. № 7. С. 84–90.
- Нестерова Н.Н. (2012). Инновационный потенциал: роль и место в развитии экономики региона // Социально-экономические явления и процессы. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-potentsial-rol-i-mesto-v-razvitii-ekonomiki-regiona
- Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. (2021). Роль бюджетообразующих предприятий в муниципальном развитии (на примере Вологодской области) // Социальное пространство. № 3. С. 1–17.
- Семячков К.А. (2021). Инновационный потенциал умного города // Журнал экономической теории. № 3. С. 474–484.
- Фонотов А.Г. (2023). Наука как объект управления и как фактор развития // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 158–172.
- Ding C., Liu C., Zheng C., Li F. (2022). Digital economy, technological innovation and high-quality economic development: Based on spatial effect and mediation effect. Sustainability, 14, 216.
- Fan F., Lian H., Wang S. (2020). Can regional collaborative innovation improve innovation efficiency? An empirical study of Chinese cities. Growth and Change, 51 (1), 440–463.
- Freedman C. (1983). Financial innovation in Canada: Causes and consequences. The American Economic Review, 2, 101–106.
- Hauge E.S., Kyllingstad N., Maehle N., Schulze-Krogh A.C. (2017). Developing cross-industry innovation capability: Regional drivers and indicators within firms. Path Dependence and Regional Economic Renewal, 34–51.
- Heeks R., Bailur S. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. Government information quarterly, 2, 243–265.
- Martinidis G., Komninos N., Carayannis E. (2022). Taking into account the human factor in regional innovation systems and policies. Journal of the Knowledge Economy, 13 (2), 849–879.
- Mohajan H.K. (2017). An analysis on BCG growth sharing matrix. Noble International Journal of Business and Management Research, 1, 1–6.
- Padmore T., Gibson H. (1998). Modelling systems of innovation: II. A framework for industrial cluster analysis in regions. Research policy, 6, 625–641.
- Schumpeter J.A. (1989). Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles and the evolution of capitalism. Routledge.