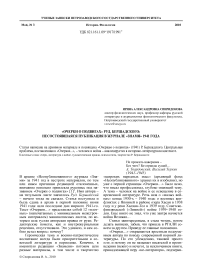«Очерки о подвигах» Руд. Бершадского: несостоявшаяся публикация в журнале «Знамя» 1941 года
Автор: Спиридонова Ирина Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История. Филология
Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.
Бесплатный доступ
Очерк, литература о войне, художественная правда, психологизм, творчество р. бершадского
Короткий адрес: https://sciup.org/14749704
IDR: 14749704
Текст статьи «Очерки о подвигах» Руд. Бершадского: несостоявшаяся публикация в журнале «Знамя» 1941 года
В архиве «Неопубликованного» журнала «Знамя» за 1941 год в пестроте материалов, по тем или иным причинам редакцией отклоненных, внимание невольно привлекла рукопись под названием «Очерки о подвигах» [1]1. Имя автора – на титульном листе значилось Руд. Бершадский – ничего тогда не сказало. Статья поступила и была сдана в архив в первой половине июня 1941 года: шли последние дни мирного 1941-го. Текст «Очерков…» представлял собой 12 «плотных» (напечатанных с минимальным межстрочным интервалом) машинописных листов, по которым шла густая авторская правка от руки. Редакторские пометы, как и внутрижурнальная рецензия, отсутствовали. Это удивило, и сам собою встал вопрос: почему?
Героическая тема и военно-патриотическое воспитание всегда были приоритетными в советской литературе и периодике. Конечно, в именитую редакцию «Знамени» потоком шли разные материалы, в том числе и творчество
Не прожить наверняка – Без чего? Без правды сущей… А. Твардовский. Василий Теркин (1941–1945)
«широких народных масс» (архивный фонд «Неопубликованного» хранил их в изобилии), но уже с первой страницы «Очерков…» было ясно, что писал профессионал, глубоко знающий тему. А тема – человек на войне и ее освещение в современной литературе. Речь шла о «малых войнах» конца 1930-х – 1940 года: о военных конфликтах с Японией в районе озера Хасан в 1938 году и у реки Халхин-Гол в 1939 году, Советско-финляндской («Зимней») войне 1939–1940 годов. Еще никто не знал, что уже завтра начнется война Великая…
Статья заинтересовала, я стала читать, потом делать выписки, забыв, что пришла в РГАЛИ совсем за другим. Приведу ее главные положения.
«Очерки…» открываются яростным недоумением автора по поводу современной военной литературы. По его убеждению, таковой просто нет, и потому он не называет писателей и произведения (некого и нечего), за исключением книги, принадлежащей перу «не-литератора», подчерки- вает Р. Бершадский: это книга младшего командира И. Митрофанова «В снегах Финляндии. Записки младшего командира» (М., 1941), и цитирует симоновские строки: «Да, враг был храбр. Тем больше наша слава»2. В произведениях других авторов, по мнению Бершадского, отсутствует правда войны, которая под пером журналистов и писателей превращается в «сплошной фейерверк подвигов» (л. 7). Яркий пример тому – удалые подвиги героя-богатыря Васи Теркина, совершаемые им на страницах газеты «На страже Родины» Ленинградского военного округа в период тяжелой, кровавой Финской кампании 1939– 1940 годов. Это еще не «личный» герой А. Твардовского времен Великой Отечественной, а его литературный прототип, персонаж коллектива авторов, литературными родителями-няньками которого были также Н. Тихонов, В. Саянов, Н. Щербаков, С. Вашенцев, Ц. Солодарь и др. Вся страна в это время с энтузиазмом пела «Марш советских танкистов» из фильма «Трактористы»: «Броня крепка, и танки наши быстры…»3.
Но там, где скрыта драма войны, выхолащивается и ее героика. Бершадский пишет: «…серьезный порок кроется в том, что показ героев сплошь и рядом подменяется показом только подвигов их: когда читатель в литературе о войне находит только описание подвигов, то у него естественно создается впечатление, что война не из чего другого и не состоит» (л. 6). Между тем Финская кампания показала – преподав горький урок – что война не состоит «из успешных рейдов в тыл врага с громом гранат… с баснословным количеством трофеев, захваченных смельчаками, с красным флагом, взнесенным на купол неприступного дота» (л. 6). У нее есть тяжелые будни и негероический быт, который состоит «из нарядов в сторожевое охранение, во время которых зачастую абсолютно никаких происшествий не случается, из нарядов на кухню, где надо просто-напросто чистить картошку, из того, что гражданина, привыкшего к штиблетам, обучают, как правильно наматывать портянку на ногу, чтоб потертостей не было» (л. 7). Однако в литературе о войне об этом ни слова, ею не замечены «“невидные” профессионалы войны», а дилетантизма война не терпит.
Главная тревога автора в том, что современная литература превратилась в «литературу о подвигах, а не о людях» (л. 2), что в ней пропал человек: «Героев очерков чаще всего запоминаешь только по различным анкетным данным подвига: вот этот артиллерист прямой наводкой уничтожил дот, этот разведчик в течение 5 суток передавал сведения о противнике… Человек, конкретный человек в его неповторимом своеобразии ускользнул от внимания авторов» (л. 2). Между тем важно раскрыть именно «путь человека к подвигу» («Путь к подвигу» – так вслед формуле, сложившейся в неопубликованных «Очерках…», будет названа книга Р. Бершадского, которая выйдет в оттепелечном 1956 году).
Обращаясь к опыту последней, «северной», войны и ее освещению на страницах газет и журналов, Бершадский пишет, что «литература фиксирует преимущественно “трудности внешние”»: «Если говорить о Финляндии, – мощь укреплений, суровая природа, лютость морозов, ярость врага. Слов нет – это не мало. Но это не все. Есть иная категория трудностей, причем изображать их сложнее… Я имею в виду трудности психологического порядка – не внешние, а лежащие в нас самих»4 (л. 7). Далее следует прописанный, зачеркнутый и вновь возвращенный в основной текст фрагмент – в котором автор взвешивает и уточняет каждое слово – о неизбежных на войне психологических состояниях растерянности, страха, паники (густо зачеркнутое отмечено в тексте в скобках пометой нрзб. : неразборчиво): «В каком из очерков мы найдем описание того, как порою возникала паника ( нрзб. ) и как ее удавалось приостановить? ( нрзб. ) Где показано у нас преодоление нерешительности бойца, которая сплошь и рядом является причиной паники? А ведь чувство нерешительности – особенно в первых боях! – чувство не исключительное. Показать, как это чувство в процессе боя преодолевается, вытравляется, – значит помочь сегодняшнему читателю – завтрашнему бойцу – прийти к первому бою неизмеримо лучше подготовленным психологически, значит заранее ослабить в нем этот страх перед неведомым» (л. 7).
Отдадим должное мужеству Р. Бершадского, который берется напомнить советским писателям и читателям о вечных проблемах человеческого существования, в том числе о страхе смерти, с которым надо справиться солдату, чтобы остаться человеком и выполнить воинский долг в то время, когда официальная идеология жестко отграничивала советское пространство жизни как социальной, так и психологической, когда все советское: человек, народ, общество, гуманизм, патриотизм, сознание и т. д. – противопоставлялось «чуждому» прошлому и «враждебному» (капиталистическому) окружению настоящего.
Р. Бершадский предстает в «Очерках…» верным продолжателем реалистической традиции отечественной литературы, где принцип правды во взаимоотношениях искусства и жизни мыслится священной обязанностью художника и гражданина, эстетическим и этическим фундаментом творчества. Он ставит проблему человеческих жертв и цены победы – жертв, неизбежных на всякой войне и так часто трагически завышенных в советской истории. Речь в статье идет о «сокращении рубежа атак» на Хасане, затем в «Зимней» войне, которое оказалось чревато для тысяч солдат двойной смертью (вопреки пословице): смертью от орудийных обстрелов врага и от огня своей артиллерии. Смерть от своих – особенно тяжелая психологическая травма для идущих в бой, тем более, когда от бойцов скрывалась (как будто это возможно было скрыть)
беспощадная целесообразность войны: жертвы закладывались в стратегию и тактику боя ради быстрой – «победной» – атаки. Компенсируя «робость» публицистики и литературы, Р. Бершадский описывает такой бой: «Солдатам приходилось скапливаться для атаки в зоне, поражаемой не только противником, но частично осколками собственных снарядов. Требовалось заставить себя идти на смерть не от вражеского снаряда, а от своего – только такая гибель части атакующих обеспечивала всему подразделению успех. Пусть тот, кто хоть раз когда бы то ни было ходил в подобную атаку, вспомнит: приходилось ли когда бы больше напрягать свою волю и решимость, чем в эти минуты» (л. 8).
Р. Бершадский вновь и вновь возвращается к урокам только что прошедших войн и неисполненному литературой долгу: рассказать читателю трудную, но необходимую правду о войне, без которой не воспитать гражданина и патриота, не подготовить будущих солдат. В парадной, ура-героической подаче современных военных конфликтов «сказалось проявление все той же – возможно, неосознанной, но тем не менее существующей и потому еще более опасной – линии на изображение войны как сплошного фейерверка подвигов. Хочется нам этого или нет, а к войне длительной, к войне не молниеносной, а на истощение, подобное описание боев читателя психологически не готовит. Между тем никто и ничто не дает нам право утверждать, что война, к которой мы должны быть готовы постоянно, будет войной молниеносной, а не длительной» (л. 7). Это трагическое предвидение становится смысловым нервом статьи. «Кладези материала – для наблюдений, мыслей, обобщений – получила советская литература в результате тех военных действий, которые пришлось вести нашей родине за последние годы, – пишет Р. Бершадский в заключение. – То, что сделано в области освоения материала, – только начальный этап. Задержаться на нем – означало бы отстать в выполнении задач, касающихся боевого воспитания молодого поколения, – поколения, в большей мере покуда не бывшего на войне, знающего войну только из наших книжек, но которое в любой момент может оказаться вынужденным обстоятельствами стать в строй и с винтовкой в руках, в тот же день принять бой за родину. И нельзя будет простить нам, советским литераторам, если наша доля военного воспитания этого поколения окажется ниже собственных возможностей... Есть задачи, запаздывать с разрешением которых, - значит совершать преступление (курсивом дано вписанное автором от руки. - И. С .)» (л. 12).
Честная, мужественная статья. Она написана в период, когда репрессии в критике и литературоведении шли полным ходом: в 1940 году по -становлением ЦК ВКП(б) были закрыты журналы «Литературный критик» и «Литературное обозрение» и ликвидирована секция критики в Союзе писателей. Принесенная в журнал «Зна- мя» в июне 1941 года, она была обречена на не-публикацию: и потому, что шла вразрез с официальной идеологической линией в освещении советской истории дня вчерашнего, и потому, что катастрофой завтрашнего дня стояла у порога Великая Отечественная война.
«Очерки о подвигах» Р. Бершадского процитированы нами в уважительную память автора, дерзнувшего, не оглядываясь на время, высказаться по проблемам литературы и войны не с идейно-политических, а с нравственно-психологических позиций. Слияние гуманистического и патриотического пафоса, верность правде и советским идеалам (а не идеологической линии), уважение к читателю, понимание роли и ответственности писателя за слово – таковы базовые принципы, которыми руководствовался Бершадский при создании «Очерков…». Это еще одна страница той советской предвоенной литературы, которой мы не знаем.
В заключение несколько слов об авторе «Очерков о подвигах» – талантливом писателе и журналисте Рудольфе Юльевиче Бершадском (1909– 1979). При жизни писателя вышло около 20 его книг (не считая многочисленных публикаций в периодике). О чем бы ни писал Бершадский: о войне, истории, путешествиях – главное событие в его повествовании – всегда человек. Людские характеры, поступки, биографии, судьбы он собирал любовно, хранил бережно. О самом же авторе сведения пришлось разыскивать по крупицам. Родом Р. Ю. Бершадский из Украины, в годы Гражданской войны мальчишкой ушел в Красную армию. На его глазах в 1919-м погиб старший брат – об этом первое опубликованное стихотворение «Первый урок политграмоты», напечатанное в газете «Правда» 23 февраля 1926 года. В журналистике начал как рабкор, в литературе как поэт – сборники «Старт» (1930), «Это и есть война» (1933), «Линия прицела» (1933). Был участником военных событий на озере Хасан, прошел «северную» войну. Там, на фронте, в 1938-м (по другим источникам – в 1939-м) вступил в партию. Военным событиям рубежа 1930–40-х посвящены «Рассказы о выручке в бою» (1940) и «Очерки о подвигах» (1941), сценарий «В тылу врага» (1941), по которому в том же 1941-м был снят фильм (режиссер Е. Шнейдер, главную роль красноармейца-разведчика Байкова сыграл Н. Крючков). Бершадский в рядах Красной армии прошел всю Великую Отечественную, начав войну на Ленинградском фронте, закончив в Германии. Написано им в эти годы много, а книга вышла одна – «Рассказы о войне» (1942). После войны – повесть «На раскопках древнего Хорезма» (1949). До 1950-го сотрудничал в разных московских периодических изданиях, был заведующим отделом «Литературной газеты». В ходе антиеврейской компании начала 1950-х подвергался преследованиям, в 1953 году находился в заключении – об этом времени писатель предпочитал молчать. В первый год оттепели вышли сборники рассказов Бершадского, посвящен- ные Великой Отечественной войне, – «Путь к подвигу» и «Великолукские записи» (1956). Военнопатриотическая тема будет продолжена в книгах «Знакомство с Черновым» (1960), «Люблю! Ненавижу!» (1962), «Смерть считать недействительной» (1964), «Командировка в Грюнштедтль» (1968) и др. Подобно К. Симонову, С. Смирнову, он неустанно собирал документальные свидетельства народного подвига, солдатские мемуары, чтобы жила память о погибших и живых героях. Параллельно Р. Ю. Бершадский активно работает в жанре научно-популярного и путевого очерков: «Две повести о тайнах истории» (1958), «Впереди – Атлантида» и «В двух шагах от экватора» (1961), «Все на одной планете» (1965), «От первого лица» (1967), «Другой край света» (1967), «Полтораста страниц о Франции» (1972) и др. В 1980-м, уже посмертно, вышел сборник «Почти вся жизнь» [2], в который вошли избранные произведения разных лет, ставшие «визитными карточками» писателя Руд. Бершадского, как он подписывал свои книги («Мой друг Хрунов», «Лева Семиверх», «Складчина для Рафаэля» и др.). «Почти вся жизнь» слегка приоткрыла завесу, за которой остались написанные, но так и не дошедшие до читателя произведения, корреспонденции, рабочие записи, дневники, размышления писателя, – память потребовала вернуться к ним спустя десятилетия: «Аттестат его зрелости» – о событиях «Зимней» войны; «Ненаписанные корреспонденции», «Из фронтовых блокнотов» – из записных книжек Великой Отечественной.
ПРИМЕЧАНИЯ
Далее ссылки на лист даются в основном тексте в круглых скобках.
Это финальные строки стихотворения К. Симонова «Танк» (1939).
«Марш советских танкистов» написан в 1938 году, музыка братьев Покрасс, стихи Б. Ласкина. Впервые прозвучал в легендарном фильме «Трактористы», который вышел на экраны страны в 1939 году, режиссер И. Пырьев, в главных ролях: Н. Крючков, Б. Андреев, П. Алейников, М. Ладынина.
Бершадский один из первых поставил эту проблему (см. об этом [3]).
ИСТОЧНИК
-
1. РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 2. Ед. хр. 581. Л. 1–12.
-
2. Бершадский Руд. Почти вся жизнь. М.: Сов. Россия, 1980. 400 с.
-
3. Сенявская Е . С . Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с.
Список литературы «Очерки о подвигах» Руд. Бершадского: несостоявшаяся публикация в журнале «Знамя» 1941 года
- РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 2. Ед. хр. 581. Л. 1-12.
- Бершадский Руд. Почти вся жизнь. М.: Сов. Россия, 1980. 400 с.
- Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с.