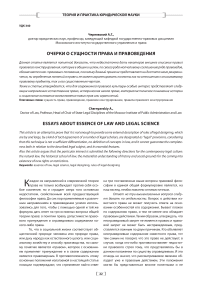Очерки о сущности права и правоведения
Автор: Чернявский А.Г.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является попыткой доказать, что недостаточно дать некоторое внешнее описание правил правового конструирования, которые в общем и целом, по своего рода молчаливому соглашению ряда правоведов, обозначаются как «правовые» положения, поскольку данный прием не представляет ни достаточного разграни- чения, ни определения понятий в праве и не может гарантировать полноты как по отношению к описываемому правовому предмету, так и его существенным чертам. Также в статье утверждается, что для современной правовой культуры особый интерес представляют следу- ющие направления: естественное право, историческая школа права, материалистическое понимание истории и социальные основания возникновения новых прав или ограничений.
Сущность права, правоведение, правила правового конструирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14119845
IDR: 14119845
Текст научной статьи Очерки о сущности права и правоведения
К аждое из направлений в современной теории права не только возбуждает против себя особое сомнение, но и страдает сверх того основным недостатком, свойственным всей предшествующей философии права. До сих пор применяемые к различным направлениям в правоведении усилия использовались для того, чтобы с помощью одной и той же формулы дать ответ на три основных вопроса общей теории права: о понятии права, допустимости правового принуждения и справедливом содержании какого-либо права.
То, что в социальной жизни соответствует общественной природе человека или природе права, или духу народа как естественного целого, или социальному хозяйству и способу производства, по самому понятию является «правом», которое с основанием применяет принуждение и в своем содержании является правомерным. В противоположность этому основные положения излагаемой в настоящей статье позиции подтверждают, что стремление найти ответ на три поставленные выше вопроса правовой философии в единой общей формулировке является, на наш взгляд, необоснованно оптимистичным.
Ответ на три вышеназванных вопроса следует давать по отдельности. Вопрос о действии известного права не может получить ответа на основании особенностей его содержания. Бывает плохое по содержанию право, и тем не менее оно обладает правовым действием. Таким образом, утверждать, что несправедливый запрет не является правом и правовой запрет не может быть несправедливым, представляется ложным по двум причинам. Кто объявляет несправедливым содержание известного права, тот тем самым не говорит, что это право не действует; в случае, когда кто-либо противопоставляет недостатки правового строя тому, что представлялось бы в данном положении по существу справедливым. И это отнюдь не значит, что рассматриваемое явление обладает уже и правовым действием. Эти положения могли бы представляться вполне понятными и не нуждающимися в каком-либо подчеркивании, если бы опыт не показывал, что многие юристы по традиции рассматривали два вышеназванных вопроса – о действии и справедливости права – как взаимно покрывающие друг друга. Однако это представляется неправильным: методический ход доказательств в вопросе о том, обладает ли известное правовое решение в данном положении свойством справедливости, не имеет совершенно ничего общего с вопросом, должен ли судья и стороны их применять или оставить без внимания это решение.
Не является новшеством и то, что исследования о сущности права всегда противопоставляются рассмотрению постановлений «какого-либо особого» права. Они как раз стремятся отрешиться от особого содержания данного правового порядка и дают общий взгляд, безусловно, действительный для всякого права. Какие свойства может носить такой взгляд? Наш ответ: он возможен лишь в смысле формального метода. Мы хотим выяснить общий порядок и способ, пригодный для того, чтобы упорядочить многообразный, исторически обусловленный и постоянно изменяющийся материал социальных правил. Без помощи подобной однообразной обработки всякий материал правовой истории представлял бы собой лишь такой беспорядок, о котором нельзя было бы даже с основанием сказать, что он представляет собой «правовой материал», если бы здесь не приходил на помощь основной метод, позволяющий охватить и понять социальное регулирование формальным образом. Над этим материалом никто не мог бы произнести оправдывающего или отвергающего суждения иначе как путем общепринятого формального способа оценки и суждения. Если данная работа озаглавлена «Сущность права и правоведения», то следует помнить, что «сущность» вещи обозначает «единство ее неизменных формальных условий» и что «наука», «ведение» обозначает сознание, направленное на единство и завершенное в переработке до степени последнего.
Наоборот, до тех пор, пока в известном изложении и учении содержится хотя бы малейший след условного материала особого правового желания, оно не может иметь абсолютного действия. Оно необходимо представляет подверженное изменению содержание и в этом качестве отнюдь не может выступать в роли существенной составной части чистого учения о праве. Точный характер может носить только учение о формальных условиях возможного объединения, и только оно можетс основанием рассчитытвать на безусловное действие. Наоборот, всякое рассмотрение материальных особенностей будет как раз постольку научным, поскольку оно в состоянии с успехом в сознательном осмыслении соответствовать указанным формам. Такая постановка проблем, имеющая высшей целью исследование и выяснение основного метода научно-правового осмысления, тем самым существенно отличается от всех других стремлений, в конечном итоге которых все еще значатся результаты материально обусловленного содержания.
Были сделаны точные наблюдения по поводу того, как исторически данное право совмещается с особою культурой определенного периода и как при этом проявляются определенные требования другого права и выступают против существующего порядка. Однако это различие действующего права и правовых постулатов представляет собой нечто, совершенно отличное от противопоставлений особого правового материала и всеобщего формального метода для оценки и определения любого обусловленного правового содержания. Это последнее разделение совершенно независимо от противоположения закона, как он существует, и закона, подлежащего изданию; воспроизводится вновь в каждом из них. Оно представляет собой основное предположение для всякого возможного правоведения, тогда как другое названное деление отражает только внешнее разделение в зависимости от времени действия, данного эмпирически или отсутствующего. Однако и так называемые правовые постулаты могут быть, как требования изменения определенного права, справедливыми или несправедливыми по существу, поэтому возникает вопрос: путем какого методического хода доказательств можно обосновать то или другое?
Идея справедливости есть формальное свойство, могущее принадлежать каждому особому правовому содержанию – прежнему, ныне существующему или предполагаемому.
Это различие «формы» и «материи» должно быть особенно настойчиво акцентировано. Только ясно проникнувшись им и проведя его полноценно, можно устранить недоразумение, будто оно должно быть направлено на то, чтобы противопоставить право, созданное идеально, исторически сложившемуся праву. Об этом нет и речи. По действующему закону подразумевается, что всякое волеизъявление является исторически обусловленным. Оно возникает из особого исторического положения и открывает для своего генетического обсуждения необходимые причины. Однако всякое особое по содержанию волеизъявление связано с другим, отличным от него, на основе внутреннего равенства. Они, оставаясь отдельными, сходятся между собой в общем формальном способе. С помощью его материально многообразные нормы одинаково подчиняются понятию права, затем допускают опять свое разделение по формальному способу на справедливое и несправедливое по существу право. В действительности это последнее и так совершается непрерывно. Никто, рассматривая определенное правовое регулирование, будь это юрист или обыкновенный обыватель, не откажется с легко- стью от права подвергнуть данное «особое право» критике. Сообразно этому наша проблема ставится так: что, собственно, значит объявить закон, договорное требование или другое правовое волеизъявление? Являются они обоснованными или необоснованными по существу?
Поставленная задача состоит в том, чтобы путем методического самоанализа уяснить себе те идеи, которые мы вкладываем в вышеупомянутые критические оценки. Здесь вовсе не изобретаются новые правовые положения, и не расширяется из нас самих материал правового регулирования. Речь идет о том, чтобы выяснить идею справедливости права в качестве формального понятия, которая в смысле материальной правды была, есть и будет актуальной во все времена, и показать методическую возможность ее применения. Для этого нужно только указать всеобщий процесс, который с необходимостью развивается в наших мыслях, раз мы подвергаем критическому рассмотрению право и социальную жизнь. Таким образом, мы оставляем позади особый материал исторических правовых порядков и обращаемся к собственной и ограниченной работе над методической формой, чтобы вообще понять и одинаково обсудить и определить эти порядки.
Не может подлежать никакому сомнению, что правовой порядок есть средство для достижения целей. Поэтому решающей систематической точкой зрения для всякого права может быть только единство в рассмотрении целей. Кто заранее ограничивается вопросами о возникновении правового регулятора, тот задается лишь вопросом о происхождении известных средств и целей. Отсюда следует, что сущность права подчинена закономерности человеческого существа, т.е. одинаковому способу оценки содержания целей.
Это причисление права к области целей пробивает себе окончательно путь повсюду, уже в силу необходимости, даже у таких лиц, которые первоначально не желали пользоваться «писаным правом». Так, оно обнаруживается при критической оценке материалистического понимания истории, особенно у Спинозы, который, как известно, хотел понять и определить все вещи лишь как определенные виды одного закономерного единства, «субстанции». И человек представляет лишь модус единой, всеобъемлющей субстанции, и цели подлежат оценке лишь как свойства людей, поскольку сам человек является предметом изучения природы. Таким образом, Спиноза понимал «естественное право» в смысле «естественного закона». Это суть правил, которые заставляют всякое существо обнаруживать своеобразие их существования и действие; все заключается в едином течении естественного господства субстанции. Но Спиноза, вопреки этому, желает еще дать объяснение правового порядка. Он полагает, что люди подчиняются праву, потому что видят в государстве меньшее зло в сравнении с анархией. Он ставит вопрос и решает его в смысле полного одобрения того, что государственное единство объемлет всех нас, так как последнее является подходящим средством для достижения естественного назначения человека.
В чем же заключается закономерность целей, которым должно подчиняться, и правовое воление? Особенность современного словоупотребления термина «закономерность» заключается преимущественно в смысле признанной причинности. Однако последнее представляет собой только особое направление в задачах объективирующего самосознания, между тем материальная мысль, которую надлежащим образом выражает слово «закономерность», заключается в понятии общепризнанного способа познания и воления. Согласно этому закономерность целей обозначает единый, конечный и, безусловно, возможный метод для суждения и определения содержания человеческого воления. Так как этот формальный прием должен применяться ко всем мыслимым человеческим целям, то он может заключаться лишь в идее такого способа воления, чтобы ее можно было представить освобожденной от особенностей предлежащего субъективного положения. Согласно этому для наличия закономерно обоснованной цели необходимо, чтобы она представилась понятной не только как цель ограниченного личного пожелания, но и отрешенная от особенностей данного субъекта, оставалась обоснованной для всякого представленного в таком положении человека. Таким образом, идея свободного по содержанию воления есть закономерность целей. Этой идее никогда не может вполне соответствовать действительно данное содержание воли. Всегда существует только материально обусловленное воление. Но разница в том и заключается, исчезает ли оно в своей обусловленности и может быть утверждаемо со стороны хотящего лишь как условное или же может выступать как объективно оправдываемая цель. В этих последних целях формальная идея свободного по содержанию воления и образует директиву для методически обеспеченного критического суждения относительно эмпирически обусловленного воления.
Эта руководящая идея закономерного способа суждения и определения является абсолютно действительной, то, что с ее помощью подвергнуто конкретному суду и определению, может быть по меньшей мере объективно справедливым. Оно располагает этим свойством, если в этом особенном положении соответствует, насколько мы можем судить, безусловно действующему формальному закону. Однако оно никогда не может совершенно совпадать с ним и вполне покрываться им именно потому, что представляет обусловленный материал и подлежит изменени- ям и улучшениям. Итак, при человеческом волении, а следовательно, также и в праве, можно различать не только две возможности: абсолютно действительное содержание права и исторически обусловленное, на самом деле существует троякое деление: сначала абсолютно действующий формальный метод и затем в пределах исторически обусловленного правового содержания такое, которое установлено и конкретно обработано согласно этому методу и потому может быть названо объективно справедливым, наконец, такое, которому недостает этого качества.
Каждый стремится к объективно оправдываемому волению; по крайней мере он желал бы иметь его для суждения о действиях других лиц. Проблема справедливости определенного воления есть, таким образом, не проблема одного лишь теоретического размышления. Скорее нужно сделать объективно понятным систематическое суждение о естественно возникающих целях и стремлениях и облегчить методическую обработку условного материала, который иначе остался бы хаосом диких вожделений и стремлений. Только в остроте прозрения и в ясности мыслей теория может отличаться от неопределенных и туманных утверждений по так называемому «чувству», но она вполне основательно не имеет ничего общего с творческим созданием нового материала желаний и выбора.
При осуществлении этого призвания критически действующей теории возникает ясное различие двух задач справедливого воления. Последнее может представляться прежде всего таким, каким хранит его про себя отдельный человек. Материал его составляют при этом мысленные пожелания, которые могут быть сами по себе дурными или хорошими. Благонравие, чистота и правда внутреннего содержания ставятся здесь отдельному человеку в качестве задачи и притом такой, исполнение которой должно быть для него самым важным во всей жизни. Поэтому верна истина о том, что неправда пред самим собою и внутренний обман противоречий составляют содержание понятия внутренней нечистоты, но для человека не может быть ничего хуже, как вытекающее отсюда презрение к самому себе. Предупредить отдельного человека об этой опасности, навести его на правильную работу над своими внутренними желаниями и просто помыслами – такова задача нравственного учения.
Если таким образом нравственное воление представляется как внутренняя жизнь отдельного человека сама по себе, то социальное воление есть упорядоченный строй, связующий множество людей в общем преследовании социальной цели. Оно есть воление для других. При этом пока еще безразлично, кто выражает и проводит это воление. Содержание этого воления должно быть направлено не на соб- ственные мысли как таковые, а на способ совокупного действия многих, которые должны быть подчинены этому теперешнему волению. Но и это содержание с социального воления должно быть объективно справедливым. Согласно ему должен существовать правильный способ совокупного действия, что представляет задачу справедливого права.
Таким образом, для справедливого воления возникают две задачи. Недостаточно принимать во внимание только одну из них и указывать на нее одну, но необходимо оценивать ближайшим образом каждую из них с точки зрения названного нами общего им закона целей и разлагать каждую из них в ее особенностях. Так, в нагорной проповеди пятой заповеди Декалога основательно противопоставлено предупреждение против гневных мыслей к ближнему, а наряду с запрещением нарушения брака выставлено положение о том, что кто взирает на женщину с вожделением, уже нарушил с нею брак «в сердце своем». С другой стороны, кто вступает в брак, о том я могу точно знать только то, что он юридически выражает справедливое хотение; является ли его акт также и нравственным, это зависит совершенно от рода пожеланий в его внутреннем содержании. И наоборот, в прославленном совете подставлять обидчику еще и правую щеку под удар не заключается статьи справедливого нравственного воления: такое направление мыслей, при котором каждая внешность и мелочь возможных переживаний как таковые должны мало цениться, ни одна из них сама по себе не должна привязывать сердца человека настолько, чтоб при потере чувств он ощущал себя уничтоженным.
Это отношение между нравственным и социальным волением еще со времен Канта очень часто хотят обозначить, различая автономную и гетерономную волю. Первая заимствует свою закономерность от собственной внутренней деятельности человека, вторая входит к нему извне и требует не моральности, но лишь внешне согласованной законности. Однако при этом исходят исключительно из точки зрения отдельного лица, и тут роковым образом между обеими задачами воления необходимо возникает раздвоение. Вместо этого нужно твердо придерживаться мысли, что социальное воление не представляет более воления отдельного лица в самом себе, но есть правило, связывающее многих лиц и стоящее над ними. Это целевое содержание, независимо от того, кем оно было установлено путем особого опыта, и должно быть в своей собственной задаче – регулирования совокупной деятельности – приведено в гармоническое согласие с основными мыслями человеческого воления.
Если мы рассмотрим в особенности задачу, ставящую себе целью объективно анализировать социальное воление, подвергать его обсуждению, то пред- варительно нужно еще раз подчеркнуть, что просветленная мораль и справедливое право представляют лишь два особых выражения одной и той же закономерности человеческого воления. Они не должны принципиальным образом ставиться в взаимное противоположение. Оба представляют справедливое воление, лишь осуществленное над различными проблемами. Дело вовсе не в том, обозначать ли общую совокупность учения, которое при этом противопо- лагается естественному созерцанию, как «этику» или как «моральную философию», или как «целевую науку», или же назвать ее еще как-нибудь иначе. Здесь нужно лишь подчеркнуть, что, ставя основной вопрос о справедливых целях, при разработке его мы тотчас встречаем две вышеназванные особенные задачи, из которых мы теперь ближе приступаем к задаче правильного социального воления в указанном в данной статье смысле.
Список литературы Очерки о сущности права и правоведения
- Васильев А.В. Теория государства и права: курс лекций. - М.:Флинта: МПСИ, 2006. - 200 с.
- Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства // Право и власть. - М., 1990.
- Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: Зерцало, 2008. - 452 с.
- Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. - М.: Прометей, 1999. - 419 с.
- Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.
- Щегорцев В.А. Социология правосознания. - М., 1981.
- Явич Л.С. Сущность права. - Л., 1985.