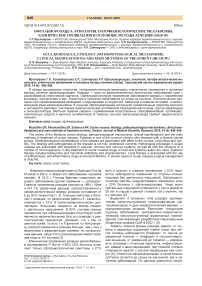Офтальморозацеа: этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и основные методы лечения
Автор: Мустафина Г.Р., Хисматуллина З.Р., Саттарова P.P.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Дерматовенерология
Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
В обзоре рассмотрены этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и основные методы лечения офтальморозацеа. Розацеа - одно из распространенных хронических заболеваний кожи с разнообразной клинической картиной. Офтальмологические проявления заболевания связаны с поражением роговицы, конъюнктивы и век. Этиология и патогенез заболевания до конца не изучены. Патологические процессы при офтальморозацеа связывают с нарушениями в сосудистой, иммунной и нервной системах, а также с влиянием ряда микроорганизмов. В лечении офтальморозацеа используют лекарственные средства местного и системного действия. Системная терапия включает антибиотики тетрациклинового ряда, группы макролидов и ангиопротекторы. Местная терапия связана с применением искусственных слезозаменителей, противовоспалительных средств и местных антибиотиков. В тяжелых случаях офтальморозацеа требует хирургического лечения.
Офтальморозацеа, розацеа
Короткий адрес: https://sciup.org/149135233
IDR: 149135233 | УДК: [616.5+616.97]
Текст научной статьи Офтальморозацеа: этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и основные методы лечения
Впервые описал розацею врач из Франции Guy de Chauliac в XIV в. и назвал это заболевание «розовой каплей». В 1812 г. Thomas Bateman предложил называть заболевание другим термином — «розацеа». Глазные проявления розацеа описаны в 1864 г. Wise и Arlt. По различным данным, распространенность офтальмологической формы розацеа составляет от 6 до 50% пациентов [1,2]. Глазные симптомы у больных с розацеа, по результатам работы E. Lazaridou, отмечаются у 33%. В кожно-венерологических диспансерах, больницах пациенты не всегда говорят о зрительных нарушениях. В 90% случаев кожные проявления при офтальморозацеа отсутствуют либо являются незначительными. Все это приводит к диагностическим трудностям. Доказано, что у лиц со светлой кожей, то есть I и II фенотип по Фитцпатрику, распространенность розацеа больше, чем у лиц с азиатскими и африканскими корнями: по литературным данным, люди этого происхождения имеют розацеа лишь в 4% случаев [3].
Клинические проявления розацеа разнообразны, в исследовании P. Borrie (1953) 20% больных отмечают только офтальмологические симптомы, у 27%
есть и кожные, и глазные проявления, у 53% пациентов наблюдаются изменения со стороны кожных покровов без зрительных нарушений. Офтальмологические жалобы предшествовали поражению кожи у 20% больных с офтальморозацеа. Чаще всего зрительные нарушения отмечаются у лиц в возрасте 50 лет и старше в равной степени, как у мужчин, так и у женщин [4].
Выделяют 4 основных типа розацеа: эритематозная, папулопустулезная, гипертрофическая, офтальморозацеа и один морфологический вариант — гранулематозная розацеа. Различают следующие подтипы заболевания: эритематозно-телеангиэкта-тический, папулопустулезный, фиматозный, глазной. Данная классификация разработана Национальным обществом розацеа США в 2002 г. [5].
Тяжесть глазной формы розацеа зависит от глубины и характера поражения тканей глаза, при легкой степени наблюдается блефарит, от легкой до умеренной степени — блефарит и конъюнктивальная инъекция, от умеренной до тяжелой — вовлекается роговица с точечным кератитом, инфильтрацией, язвами и васкуляризацией, при тяжелой степени отмечается кератит с угрозой перфорации или склерит [6]. Этиология офтальморозацеа, а также кожных субтипов остается до конца не изученной, как и патогенез заболевания. По данным различных иссле- дований, патофизиологические механизмы розацеа связаны с изменениями в сосудистой, иммунологической и нервной системах. К. Barton и соавт. (1997) отмечают большую роль воспаления в патогенезе офтальморозацеа, что подтверждается повышением концентрации IL-1 в слезной жидкости у больных с глазной формой розацеа по сравнению с контрольной группой [7]. У пациентов с офтальморозацеа, по данным L. Sobrin и соавт., отмечается высокая активность ММР-9 (желатиназы В) в слезной жидкости, которая синтезируется эпителием роговицы. L. So-brin и соавт. (2000) выявили большую концентрацию коллагеназы-2 (ММР-8) в слезной пленке у больных с глазным субтипом розацеа, что говорит о воспалительном процессе [8]. Клетки воспаления участвуют в экспрессии ММР, таких как желатиназа (ММР-2 и -9), коллагеназа (ММР-1, — 8 и -13).
Высокий уровень воспалительных цитокинов у пациентов с офтальморозацеа приводит к разрушению эпителиального слоя роговицы и растворению коллагена и других стромальных веществ. ММР-8 (коллагеназа-2) — сильный протеолитический фермент, который расщепляет коллаген III типа и основной тип коллагена роговицы — коллаген I типа. Y. Yildirim и соавт. установили, что у больных с офтальморозацеа биомеханика роговицы изменяется под действием повышенной протеолитической активности и воспалительной реакцией на ее глазной поверхности. Исследование Y. Yildirim и соавт. (2015) установило, что коэффициент резистентности и гистерезис роговицы ниже у пациентов с глазным типом розацеа, чем у больных в контрольной группе [9]. Названные авторы связывают повышение концентрации ММР-8 с нарушением биомеханических свойств роговицы глаза. Помимо высокого уровня ММР, в слезной пленке отмечается снижение их тканевых ингибиторов, но эти воспалительные маркеры неспецифичны и выявляются при других патологических состояниях. Разные подтипы ММР участвуют в разрушении и ремоделировании тканей, поэтому в дальнейшем научные исследования в этой области будут полезны для подбора терапии.
К триггерным факторам розацеа относятся: ультрафиолетовое облучение, суровые климатические условия (длительное пребывание в условиях высокой или низкой температуры), острая и горячая пища, злоупотребление алкоголем, частые стрессы, физическое перенапряжение, использование средств ухода за кожей, содержащих цианальдегид [10]. Данные факторы участвуют в инициации воспалительных и иммунных процессов в организме. Важную роль в развитии воспалительного процесса при розацеа играют Тоll-подобные рецепторы (TLR-2, TLR-3), которые присутствуют на поверхности кератиноцитов и макрофагов и являются сигнальными паттерн-рас-познающими рецепторами. Активация TLR-2 способствует выработке ММР, кателицидина, калликреина, активных форм кислорода, оксида азота, цитокинов и хемокинов, а также повышает активность сериновой протеазы KLK-5. KLK-5 является фермент-ак-тиватором антимикробного пептида кателицидина (LL-37) [11]. М. Ueta и S. Kinoshita (2010) в своем исследовании выявили, что TLR-3 активирует экспрессию hCAP-18 (неактивный предшественник LL-37) и является наиболее выраженным Тоll-подобным рецептором. LL-37 увеличивает уровень сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и приводит к ангиогенезу [12]. Высокие уровни LL-37 и KLK-5 усиливают воспалительный процесс.
A. C. C. Vieira и соавт. (2012) установили, что в слезной пленке у пациентов с офтальморозацеа происходят снижение содержания фукозилирован-ных N-гликанов и резкое увеличение концентрации сульфатированных О-гликанов [13]. Установлена связь между Helicobacter pylori и розацеа. В исследовании Z. Dakovic и соавт. (2007) у 7 пациентов с офтальморозацеа отмечались клинические и серологические признаки инфекции Helicobacter pylori, после эрадикационной терапии у больных с глазным типом розацеа эффект от лечения был лучше, чем у больных с кожной формой заболевания [14]. По данным J. Li и соавт. (2010), имеется корреляция между Demodexfolliculorum и симбиотическими Bacillus oleronius при лицевой и глазной формах розацеа. Типичные симптомы офтальморозацеа (жжение, зуд, светобоязнь, сухость глаз, ощущение «инородного тела» и слезотечение) являются двусторонними. При офтальморозацеа отмечается гиперемия конъюнктивы, фолликулярная и папиллярная реакция. В 20% случаев встречаются пингвекула и фиброз конъюнктивы, у 10% пациентов выявляют рубцовый конъюнктивит, осложнениями которого являются симблефа-рон, энтропион, трихиаз, мадароз [15].
P. Starr, A. McDonald (1969) описали расширенные сосуды в нижнем квадранте поверхностного лимбального сплетения [16]. В клиническом случае Ravage и соавт. у больного с глазной формой розацеа было поражение верхнего века, наиболее специфичного для трахомы, но антитела к Chlamydia trachomatis не обнаружены [17]. Блефарит и дисфункция мейбомиевых желез также наиболее типичны для офтальморозацеа. В 50-94% случаев при исследовании с помощью щелевой лампы отмечается телеангиэктазия и эритема краев век, уплотнение мейбомиевых желез и кератинизация концевых протоков встречается у 92% больных. С патологией мейбомиевых желез связаны рецидивирующий хала-зион и нарушение стабильности слезной пленки, ее стабильность нарушается при поражении внешнего липидного слоя, что приводит к испарению слезы и возникновению синдрома «сухого глаза» [18]. По данным К. Gudmundsen и соавт. (1992), у 56-62,5% пациентов с офтальморозацеа происходит снижение результатов теста Ширмера. При данном заболевании происходит поражение роговицы, которая проявляется точечным эпителиальным кератитом в нижней трети роговицы (39% случаев). Также характерно развитие периферических инфильтратов, неоваскуляризации, истончение роговицы и ее изъязвление. Инфильтраты роговицы появляются по окружности или продвигаются к ее центру, новообразованные сосуды располагаются в форме «spade-shape», то есть имеют вид треугольника с основанием у лимба и вершиной, обращенной к центру [19]. К изъязвлению роговицы приводит только тяжелое воспаление. Поражение роговицы может стать причиной периферического истончения и асимметричного астигматизма. Краевая перфорация роговицы — редкое осложнение офтальморозацеа, однако влекущее серьезные последствия, вплоть до слепоты. При глазной форме розацеа также встречаются проявления в виде псев-докератоконуса и псевдодендритного поражения роговицы [19].
Лечением офтальморозацеа занимаются дерматологи и офтальмологи. Подход к лечению должен быть индивидуальным, так как большинство пациентов имеют клинические проявления не только офтальморозацеа, но и других субтипов заболевания.
Во многом лечение зависит от тяжести офтальморозацеа. При легкой степени необходима гигиена краев век и использование слезозаместителей, как при синдроме «сухого глаза», при умеренной — применение антибиотиков и противовоспалительных средств, при тяжелом течении — хирургическое лечение. Теплые компрессы, массаж, специальные шампуни и скрабы для обработки краев век используются в лечении блефарита и дисфункции мейбомиевых желез. Самым распространенным и эффективным методом является антибиотикотерапия. Доказан положительный эффект азиромицина, микацина, тетрациклина, доксициклина и других антибиотиков тетрациклинового ряда. Эффект достигается за счет способности ингибировать фосфолипазы А2 и ММР, подавлять миграцию лейкоцитов, угнетать антителообразова-ние и снижать производство активных форм кислорода и оксида азота.
В исследовании М. Quarterman и соавт. выявлена эффективность при лечении офтальморозацеа доксициклином 100 мг, В. Sobolewska и соавт. доказали эффективность применения 40 мг доксициклина. При данной дозировке препарат оказывает больше противовоспалительное действие, нежели антибактериальное. У 33% больных после применения доксициклина для лечения офтальморозацеа отмечаются побочные действия в виде абдоминальных болей, кожных изменений после воздействия солнечного света [20]. Тогда в таких случаях показан азитромицин или эритромицин (перорально или местно).
F. Mantelli и соавт. в своем исследовании показали высокую эффективность и безопасность применения глазных капель азитромицина 1,5% по сравнению с системным применением доксициклина [21]. При лечении хронического блефарита у больных с офтальморозацеа в проспективном рандомизированном слепом двойном плацебо-контролируемом исследовании использовали гель фузидиновой кислоты и пероральный окситетрациклин. Эффект от применения геля фузидиновой кислоты получен у 75% пациентов, эффект от применения окситетрациклина у 50% больных [22].
По данным Н. Lee и соавт, при лечении умеренной и тяжелой дисфункции мейбомиевых желез доказана эффективность перорального приема миноциклина [23]. В исследовании A. Arman и соавт. (2015) изучалось применение циклоспорина А в лечении глазной формы розацеа. В конечном итоге оказалось, что местное применение циклоспорина А эффективнее, чем использование доксициклина перорально [24]. Циклоспорин А, кортикостероиды применяются при стойком воспалении поверхности глаза, эписклеритах, склеритах, иритах, но их нельзя использовать длительно. Окклюзию слезных протоков используют при лечении синдрома «сухого глаза» средней или тяжелой степени. Если сформировался халазион, то его надо иссекать с последующим гистологическим исследованием удаленной ткани. В тяжелых случаях с хроническим торпидным течением офтальморозацеа, сопровождающимся неконтролируемым ангиогенезом, в терапию необходимо добавить ангиопротекторы. Это лекарственные средства, которые нормализуют микроциркуляцию и блокируют патологические факторы роста фибробластов и эндотелия сосудов. Истончение и перфорация роговицы у пациентов с глазным типом розацеа требует оперативного вмешательства: наложения толстых швов на роговицу, использования тканевого клея, пластики аутоконъюнктивой, трансплантации амниотической мембраны, послойной или сквозной кератопластики [25].
Офтальморозацеа нуждается в постоянном наблюдении и лечении в течение длительного времени. При отсутствии характерных кожных проявлений постановка диагноза «офтальморозацеа» представляет определенные диагностические трудности и требует внимания со стороны офтальмологов и дерматологов. Офтальморозацеа — неспецифическое проявление болезни, поэтому при раннем выявлении и адекватном лечении имеет благоприятный исход.
Список литературы Офтальморозацеа: этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и основные методы лечения
- Rolleston JD. A Note on the Early History of Rosacea. Proceedings of the Royal Society of Medicine 1933; 26 (4): 327-9
- Кубанова А.А., Махакова Ю.Б. Розацеа: распространенность, патогенез, особенности клинических проявлений. Вестник дерматологии и венерологии 2015; (3): 36-45
- Lazaridou Е, Fotiadou С, Ziakas NG, et al. Clinical and laboratory study of ocular rosacea in northern Greece. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology 2011; 25(12): 1428-31
- Borrie P. Rosacea with special reference to its ocular manifestations. British Journal of Dermatology 1953; 65 (12): 458-63
- Федеральные клинические рекомендации: Дерматовенерология-2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой экспресс, 2016; 768 с.
- Ghanem VC, Mehra N, Wong S, et al. The prevalence of ocular signs in acne rosacea: comparing patients from ophthalmology and dermatology clinics. Cornea 2003; 22 (3): 230-3
- Barton K, Monroy DC, NavaA, etal. Inflammatory cytokines in the tears of patients with ocular rosacea. Ophthalmology 1997; 104(11): 1868-74
- Sobrin L, Liu Z, Monroy DC, et al. Regulation of MMP-9 activity in human tear fluid and corneal epithelial culture supernatant. Investigative ophthalmology and visual science 2000; 41 (7): 1703-9.
- Gallo RL, Granstein RD, Kang S, et al. Standard classification and pathophysiology of rosacea: The 2017 update by the National Rosacea Society Expert Committee. Journal of the American Academy of Dermatology 2018; 78 (1): 148-55
- Redfern RL, Reins RY, McDermott AM. Toll-like receptor activation modulates antimicrobial peptide expression by ocular surface cells. Experimental eye research 2011; 92 (3): 209-20
- Ueta M, Kinoshita S. Innate immunity of the ocular surface. Brain research bulletin 2010; 81 (2-3): 219-28
- Vieira ACC, Hufling-Lima AL, Mannis MJ. Ocular rosacea: a review. Arquivos brasileiros de oftalmologia 2012; 75 (5): 363-9
- Dakovic Z, Vesic S, Vukovic J, et al. Ocular rosacea and treatment of symptomatic Helicobacter pylori infection: a case series. Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica, et Adriatica 2007; 16 (2): 83-6
- Li J, O'Reilly N, Sheha H, et al. Correlation between ocular Demodex infestation and serum immunoreactivity to Bacillus proteins in patients with facial rosacea. Ophthalmology 2010; 117 (5): 870-7
- Starr PA, Macdonald A. Oculocutaneous aspects of rosacea. Proceedings of the Royal Society of Medicine 1969; 62 (1):9-11
- Ravage ZB, Beck АР, Macsai MS, et al. Ocular rosacea can mimic trachoma: a case of cicatrizing conjunctivitis. Cornea 2004; 23 (6): 630-1
- Akpek EK, Merchant A, Pinar V, et al. Ocular rosacea: patient characteristics and follow-up. Ophthalmology 1997; 104 (11): 1863-7
- Gudmundsen KJ, O'Donnell BF, Powell FC. Schirmer testing for dry eyes in patients with rosacea. Journal of the American Academy of Dermatology 1992; 26 (2): 211-4
- Sobolewska B, Doycheva D, Deuter C, et al. Treatment of ocular rosacea with once-daily low-dose doxycycline. Cornea 2014; 33(3): 257-60
- Mantelli F, Di Zazzo A, Sacchetti M, et al. Topical azithromycin as a novel treatment for ocular rosacea. Ocular immunology and inflammation 2013; 215): 371-7
- Seal DV, Wright P, Ficker L, et al. Placebo controlled trial of fusidicacid gel and oxytetracycline for recurrent blepharitis and rosacea. British journal of ophthalmology 1995; 79 (1): 42-5
- Lee H, Min K, Kim EK, et al. Minocycline controls clinical outcomes and inflammatory cytokines in moderate and severe meibomian gland dysfunction. American journal of ophthalmology 2012; 154 (6): 949-57
- Arman A, Demirseren DD, Takmaz T. Treatment of ocular rosacea: comparative study of topical cyclosporine and oral doxycycline. International journal of ophthalmology 2015; 8 (3): 544
- Al Arfaj K, Al Zamil W. Spontaneous corneal perforation in ocular rosacea. Middle East African journal of ophthalmology 2010; 17(2): 186
- Yildirim Y, Olcucu O, Agca A, et al. Topographic and biomechanical evaluation of corneas in patients with ocular rosacea. cornea 2015; 34 (3): 313-7