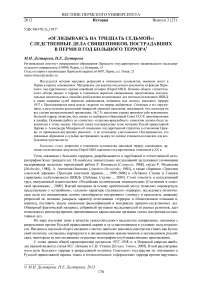«Оглядываясь на тридцать седьмой»: следственные дела священников, пострадавших в Перми в годы Большого террора
Автор: Дегтярева Мария Игоревна, Дегтярева Наталья Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Сталинизм в действии
Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется история массовых репрессий в отношении духовенства, имевших место в Перми в период «ежовщины». Материалом для анализа послужили документы из фондов Пермского государственного архива новейшей истории (ПермГАНИ). Помимо общего статистического обзора данных о терроре в отношении пермских священников, представлены документальные свидетельства о способах возбуждения коллективных дел местным отделением НКВД, а также панорама судеб пермских священников, попавших под «волну» массового террора 1937 г. Прослеживается связь между «курсом» на террор, выбранным Сталиным и его окружением, и результатами всесоюзной январской переписи населения, показавшей, что, несмотря на все усилия антирелигиозной пропаганды, 56,7 % населения страны признали себя верующими. Большой террор, очевидно, был связан и с выборами в Верховный Совет СССР, намечавшимися в декабре. Основная работа по «зачистке» «классово-враждебных» элементов должна была закончиться к этому месяцу. Находит также подтверждение тезис историка Руссой православной Церкви о. Александра Мазырина об изменении государственной стратегии в отношении Церкви: от провокации внутренних расколов – к ее тотальному уничтожению. Подчеркивается, что связанные обращение к судьбам пострадавших за веру не должно становиться поводом для возбуждения чувства мести.
Репрессии в отношении духовенства, массовый террор, "ежовщина", архивно-следственные документы пермгани, церковно-государственные отношения в xx в
Короткий адрес: https://sciup.org/147203495
IDR: 147203495 | УДК: 94(470.5)„1937”
Текст научной статьи «Оглядываясь на тридцать седьмой»: следственные дела священников, пострадавших в Перми в годы Большого террора
Тема, связанная с Большим террором, разрабатывается в зарубежной и отечественной историографии более тридцати лет. Из наиболее значительных исследований заслуживают упоминания выдержавшая несколько переизданий работа Р. Конквеста [ Conquest , 1968], труды Р. Медведева [ Medvedev , 1984], А. Антонова-Овсеенко [ Antonow-Owsejenko , 1984], а также сборники «Трагедия советской деревни» [Трагедия советской деревни…, 1999–2006] и «Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД» [Лубянка. Сталин…, 2004]. Стоит отметить и коллективный труд, выпущенный издательством «Российская политическая энциклопедия» [Сталинизм в советской провинции..., 2009]. Взятый авторами за основу критический метод позволяет опровергнуть представление о «стихийном», «слепом» характере сталинского «террора», исследовать политические цели его инициаторов, понять своеобразную внутреннюю «логику» и проследить динамику репрессий по месяцам, раскрыть характер легитимации «террора» в общественном сознании и, наконец, поставить задачу выявления фальсификаций в материалах архивно-следственных дел. Обширный фактический материал, собранный группами исследователей из разных регионов, дает возможность реконструировать применявшиеся карательными органами схемы построения коллективных дел.
По мере изучения темы в качестве самостоятельного выделилось направление, связанное с репрессиями против Русской православной церкви и ее существованием в условиях полулегальности. Введены в научный оборот сведения о местах наиболее массовых расстрелов (таких как Бутовский полигон), составлены мартирологи и жизнеописания новомучеников и исповедников российских, некоторым из них посвящены отдельные монографии и публицистические произведения.
С точки зрения общей характеристики процессов 1937–1938 гг. в Пермской епархии наиболее важной является статья М.Г. Нечаева и С.В. Уткина [ Нечаев, Уткин, 2009]. В ней рассматриваются роль Большого террора в репрессивной политике Советского государства по отношению к Русской православной церкви, этапы и технологическое «оформление» террора против верующих,
представлен статистический анализ материалов архивно-следственных дел по этносоциальному и возрастному критериям, показано количественное соотношение репрессированных представителей разных внутрицерковных направлений: «староцерковников», «обновленцев», старообрядцев, «гри-горианцев», приведено общее число репрессированных духовных лиц (вне зависимости от исповедания) и активистов религиозных организаций.
В настоящем исследовании «выборка» документов производилась более «фокусно», что определялось практической необходимостью: для епархиального отдела по истории и канонизации отбирались в первую очередь дела православных священников. Нам представляется, что для понимания событий середины 30-х гг. возможен анализ исторического материала и в логике личностного подхода , через обращение к судьбам пострадавших. В данной статье мы ставим перед собой цель, во-первых, дать общую характеристику дел православных священников из фондов ПермГА-НИ за 1937 г., во-вторых, воссоздать хотя бы частично нравственный и духовный облик священнослужителей, попавших под «волну» Большого террора.
Поскольку протоколы следственных дел 1937 г. достаточно скупы, для достижения второй цели методологически важен сравнительный анализ источников. В некоторых случаях материалом для дополнения и уточнения характеристик подследственных послужили дела более раннего времени: многие священники подвергались допросам и привлекались к ответственности ЧК–ОГПУ– НКВД не один раз. В качестве материала нами рассматриваются тексты донесений в НКВД, протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, а также документы, характеризующие методы работы следователей. Это помогает составить более полное и конкретное представление о характере процессов 1937 г., увидеть за формализованной стороной протоколов личностные черты и отчасти выявить достоверное, свободное от фальсификации содержание архивно-следственных дел. Значительная часть материалов публикуется впервые.
Конечно, за год работы (с момента открытия дел 1937 г.) невозможно охватить всего, получены первые предварительные результаты. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что репрессии против верующих укладываются в общероссийскую «канву». По масштабам они были второй по значению после «красного террора» «ударной волной», направленной против православной церкви. Последний отличался в Перми особой жестокостью и носил «фронтальный» характер [ Агафонов , 1997; Вяткин , 2000.; Балмасов , 2006; Нечаев , 2004, 2009]. Таков вывод к той схеме, которой придерживается А. Беглов: «Повсеместное закрытие храмов в 1930-х гг. придало этому явлению (речь идет о сужении сферы легальности для Церкви и расширении церковного подполья. – М. Д., Н. Д. ) массовый характер. Именно 1929 – 1930 гг. (а не вторую половину 30-х гг.) духовенство вспоминало впоследствии как самые страшные годы, как пик преследований и репрессий» [ Беглов , 2008].
Начало 30-х гг. и на Урале было связано с закрытием храмов под предлогом борьбы с «противниками сплошной коллективизации». Наиболее распространенным поводом для преследования священнослужителей со стороны властей, как правило, было то, что духовники напоминали пастве о значении постов и церковных праздников. И все же политические репрессии 1932 – 1935 гг. еще не имели таких необратимых последствий, как в последующем: во многих местах верующим удавалось отстоять храм, а приговоры в отношении духовенства и клира не представляли прямой угрозы для жизни.
Определение числа репрессированных в Перми православных священников в 1937 г. и 1918 – 1936 гг. позволяет предварительно установить, что в 1937 г. по материалам архивно-следственных дел ПермГАНИ проходило 170 персоналий, а в 1918 – 1936 гг. – 136. (Правда, надо принимать во внимание и то, что документы архива не отражают действительной статистики «красного террора» 1918 г., поскольку в большинстве случаев убийства совершались «явочным порядком», без занесения в протокол.) Таким образом, в год «тотальной зачистки» репрессиям подверглось такое же число священнослужителей, как и в предшествующие двадцать лет.
Статистические расчеты затруднены несколькими обстоятельствами: во-первых, часть подвергшихся репрессиям священников, официально находясь за штатом, фактически продолжали служение в условиях церковного «подполья», занимая должности церковного причта или состоя на службе в гражданских учреждениях; часть их были безработными и несли обязанности духовного служения на дому. Их подвергали аресту как гражданских лиц. В базу архива попали единичные случаи, выявленные на следствии. Во-вторых, невозможно представить статистику священников, погибших и расстрелянных в лагерях. Поэтому данные о числе репрессированных православных священнослужителей в разных исследованиях расходятся и будут уточняться.
Следующей особенностью процессов 1937 г. является заметное ужесточение приговоров. В 1937 г. из 170 дел священников 100 заканчивались резолюцией «расстрелять», что составляет 58, 8 % всех дел. (Для сравнения: в 1938 г. так завершались 16 дел, 1918 по 1936 г. – 4, т.е. около 3 %.) Если в 32-м – 35-м гг. обычной мерой наказания по статье 58 (10) УК была ссылка, реже – заключение сроком от 3 до 5 лет, то в 1937 г. по той же статье «высшая мера» значительно преобладает даже над более суровым при сопоставлении с предыдущими годами приговором: «десять лет исправительно-трудовых лагерей».
Меняется и сам характер следствия. В 1937 г. НКВД инициирует в основном крупные коллективные дела с привлечением от одного до десяти священнослужителей. По объему они могут составлять от 30 листов до 10 томов. При этом в 1932 – 1935 гг. еще сохранялось какое-то подобие «расследования»: сначала на основании сведений «секретных сотрудников» или по заявлению представителей власти на местах производился опрос свидетелей, затем оформлялось постановление о привлечении «подозреваемых» к уголовной ответственности, после чего подследственных допрашивали и затем выносили приговор, не исключавший возможности составления кассационной жалобы. В 1937 г. начинает работать «конвейер». Иногда все «следствие» занимает неделю, в одном случае – один день. О скорости и жестокости процессов свидетельствует красноречивая деталь: почти все дела «слепые», фотографии встречаются в единичных случаях. О том, что по отношению к обвиняемым применялись незаконные методы допросов, можно судить по материалам дел, возбужденных в отношении бывших сотрудников НКВД в 1939 и в 50-е гг.
Современные исследователи в качестве одной из главных причин Большого террора называют результаты январской переписи, показавшие что, несмотря на атеистическую пропаганду, 56,7 % граждан страны признали себя верующими. Второй причиной были выборы в Верховный Совет СССР, намечавшиеся в декабре [ Головкова; Мелентьев; Нечаев, Уткин, 2009]. Основная работа по «зачистке» «классово-враждебных» элементов должна была закончиться к этому месяцу, и обоснованием для объяснения превышения расстрельного лимита служила формулировка «ввиду предстоящих выборов». В Перми «пик» репрессий в отношении духовенства пришелся на конец лета – осень 1937 г.
Находит подтверждение и тезис историка православной церкви, преподавателя СвятоТихоновского гуманитарного университета Александра Мазырина об изменении государственной стратегии в отношении Церкви: от провокации внутренних расколов – к ее тотальному уничтожению [ Мазырин , Советская власть и Церковь]. Если для духовенства «тихоновского» направления, как показывают М.Г. Нечаев и С.В. Уткин [ Нечаев, Уткин , 2009, с. 251, 257-258], наиболее тяжелым оказался 1935 г. – все священнослужители Перми и Мотовилихи (пос. Молотов) были арестованы во главе с архиепископом Глебом (Покровским), то по представителям других направлений сокрушительным ударом был нанесен в 1937 г. Материалы ПермГАНИ содержат не только дела «тихоновцев», «сергиан» и «истинно православных христиан». Среди репрессированных есть и «обновленцы», которых власть еще недавно использовала в борьбе против «правого», тихоновского, крыла, и старообрядцы [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26188], а также трое «викторианцев». Встречаются и дела бывших «секретных сотрудников». За внешними формальными характеристиками открывается живая история между верой и безверием, исповедническим подвигом и ослеплением, мужеством и человеческой слабостью.
***
Одним из первых в 2012 г., т.е. тогда, когда члены Отдела истории и канонизации получили доступ к материалам 1937 г. из фондов ПермГАНИ, было найдено дело священника Симеона Савкина, запомнившегося нам по более раннему периоду репрессий. Дело интересное как с точки зрения выявления достоверного содержания в материалах допросов, так и с точки зрения характеристики изменения социальной психологии крестьянства и отношения его к духовенству начиная с Гражданской войны и кончая серединыой 30-х гг.
Возможность «тестирования» следственных материалов по делу 1937 г. с целью выявления правдивости отражения событий появляется благодаря сохранившемуся делу 1932 г. Это позволяет определить, было ли обвинение 1937 г. полностью сфабрикованным или имело реальную основу, которая могла получить в период Большого террора специфическую интерпретацию? В 1932 г. о.
Симеона наказали «мягко», дав ему пять лет концлагеря за «сопротивление колхозному строительству».
Знакомство с материалами дела 1932 г. убеждает в том, что тогда главной причиной ареста священника послужил его категорический отказ от сотрудничества с ОГПУ в качестве осведомителя, поводом же – неуплата им налога в трехдневный срок по предъявленному сельсоветом уведомлению. А «политическим обоснованием» стало его давнее участие в Дубровском «восстании» 1918 г. Таких акций, как организованное сопротивление «красным продотрядам», власть, как правило, не забывала. Именно этот факт и стал основным в процессе обоснования обвинения против священнослужителя в 1937 г.
Основным свидетелем по делу отца Симеона Савкина был сосед по квартире, участник того самого Дубровского «восстания», в котором священнику пришлось выступить одним из основных действующих лиц. Он поднял народ набатом, как только пришло известие о грабительстве и бесчинствах командированного к ним из города продотряда, разорившего перед этим несколько деревень. Этот свидетель сообщил: «Ставлю вас в известность, что в Павловске проживает поп Савкин Симеон Федорович, который ходит по деревням под видом исполнения религиозных обрядов. Занимается антисоветской агитацией среди колхозников. <…> Савкин за это уже был судим и сейчас не унимается. Во время гражданской войны Савкин был организатором кулацкого восстания, но каким-то образом остался не расстрелянным, что и дало возможность ему вредить советскому строительству» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2230. Л. 1–]. Мы не узнаем наверняка, каковы были мотивы автора этого документа: он смутно ощущал опасность или слышал угрозы в свой адрес, а, может быть, писал под чью-то диктовку? Но в то самое время, когда этот свидетель составлял «заявление» в очерское РО НКВД, его имя уже фигурировало в аналогичном «донесении», приобщенном к тому же делу, где раскрывалось его прошлое как «пособника и контрреволюционера». «Можно сделать вывод, что два друга бывшего восстания имеют тесную связь, хотя один поп, а другой советский служащий» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2230. Л. 4.].
Были еще пять свидетелей. Колхозница Фекла шестидесяти четырех лет, малограмотная, показывает: «Когда били красногвардейцев, то этот Савкин Семен Федорович был среди кулаков, градил их крестом и агитировал мирян: защищайтесь, не давайтесь в руки красногвардейцам» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2230. Л. 7]. Человек, ходивший с отцом Симеоном по требам, описывает собственное освобождение «от религиозного дурмана»: «Да, я действительно с ним бывал несколько раз на выполнении религиозных обрядов. Я думал, что они действительно идут по правому пути, а на самом деле (он) занимается только обманом людей, в том числе и меня. Савкину, конечно, не нравится советская власть» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2230. Л. 15].
Набор обвинений – стандартный для тех лет: агитация против колхозов, разговоры о голоде и о преимуществах того, что было до революции. В 1937 в отличие от 1918 и начала 30-х гг. священников почти не спрашивают о вере, дела оформляются как «политические». А в результате приговор «тройки» по статье 58-10 УК: «Савкина Симена Федоровича заключить в ИТЛ на 10 лет, считая срок с 30/ IX – 1937». Что ожидало отца Симеона на этом пути и пережил ли он заключение, пока неизвестно.
Сравнение дел 1932 и 1937 гг. позволяет установить следующее: обвинение в организации о. Симеоном «саботажа» в период Гражданской войны имело все же реальную основу , оно не было целиком сфальсифицировано следователем в ходе допросов в 1937 г. Священник, действительно, был среди участников событий в с. Дуброво и созывал людей набатом. Однако дела различаются степенью «откровенности» и, главное, оценочной стороной свидетельских показаний. В 1918 г. из участников «восстания» его не выдал ни один, и после допроса в ЧК (это во время «красного террора») батюшку отпустили. Вспоминая о событиях периода Гражданской войны в 32 г., вынужденные свидетели явно пытались его оправдывать: «был только в начале, сдерживал односельчан, потом ушел». К 37 г. оправдательный мотив: «во время инцидента у здания управы о. Симеон по долгу пастыря защищал и самих красноармейцев от расправы со стороны возмущенных крестьян» уже не звучит. Теперь в свидетельских показаниях священник Симеон Савкин выступает как «враг советской власти», и заступиться за него некому.
Перед исследователями дел 1937 г. проходит множество «заявлений» и протоколов допроса. Мотивы свидетелей различны: в одних случаях чувствуется принуждение – говорят уклончиво, скупо, неохотно, в других – явно преобладает страх за близких, за детей. И все же есть немало
«доброхотных» свидетельств с личным эмоциональным вложением: «Пишу по зову сердца» или «Считаю своим долгом донести».
Некоторые показания могут быть представлены в учебниках и хрестоматиях как образец стиля тех лет. Например: «Байдаров, поп Пургинской церкви, при своем месте работы занимается раз-лагательством колхозной дисциплины. Под предлогом Пасхи агитировал. <…> Занимается разла-гательством колхозного строя. Путем тихой сапой. <…> Работает, чтоб больше пошло за религию. Завлекает молодое поколение» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 7460. Л. 1–А, 2.]; «В нашем Озерском (деревня Озерок. – М.Д., Н. Д. ) обществе находится ярый белобандит Иван Иванович Малмы-гин. <…> Я как действительный член партии считаю своим долгом сказать, что такой человек как Малмыгин есть враг народа. Он не может принести нам никакой пользы кроме вреда. А потому прошу приять с таким белобандитом строгие меры» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6625. Т. 1–2. Л. 5]. И старообрядец о. Савелий Байдаров, и о. Иоанн Малмыгин, священник тихоновского направления, в прошлом ветеран германской войны, по приговору «троек» получили по десять лет исправительно-трудовых лагерей.
Наибольшее впечатление производят случаи, когда «челобитчики» по собственной инициативе ходатайствуют о возбуждении дел в отношении духовенства, например, о. Савелия Байдарова: «Просим очерский НКВД выехать на место и данный материал рассмотреть, и привлеч за его проделанную работу» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 7460. Л. 3]. Но ответа на письмо нет, и тогда следует повторное обращение в «органы»: «Довожу, что по данному вам материалу на попа Байда-рова никаких мер непринето, что является недоверием передовых людей колхоза к руководящему составу. Прошу НКВД обследование возобновить и помоч Пахомовскому с/с (сельсовету. – М.Д., Н.Д. ) в ликвидации Байдарова с территории Очерского района» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 7460. Л. 4].
Среди инициаторов дел и «авторов» донесений в НКВД не только члены партийных ячеек и председатели сельсоветов, но и рядовые колхозники и работники изб-читален, учителя и совсем юные комсомолки.
***
На основании протоколов трудно и во многих случаях почти невозможно определить духовный облик людей, представших перед следствием НКВД. С некоторыми делами явно «поработали»: не по одному разу менялась нумерация страниц (первоначальные номера страниц зачеркнуты или подтерты). И все же, несмотря на «отжатость» материала архивно-следственных дел 1937 г., в нем попадаются яркие детали, обнаруживается открытое свидетельство веры.
В частности, судя по материалам дела священника из села Ильинское, о. Симеон Субботин предстает выдержанным и немало претерпевшим на своем веку человеком, которому достает сил отвечать на нелепые обвинения «в тон» допрашивающих, с долей юмора. Из дела мы знаем, что закрыта церковь и шестидесятивосьмилетний «поп не служит, а живет на иждивении людей и разлагает колхоз». Батюшка – из «бывших», в прошлом учитель народной школы и делопроизводитель при земской управе, подвергавшийся аресту и суду в начале 20-х гг., однако оправданный за недостатком улик. Ему предъявляют и «фактическое обвинение»: «Были случаи, что ваши козы приносили ущерб колхозу тем, что выедали озимь, топтали ее». Ответ подследственного: «С политической точки зрения этот факт является явно вредительским, иначе его рассматривать никак нельзя».
В данном случае для установления подлинности «авторской речи» обвиняемого имеет значение выбивающаяся из общего формализованного стиля протокола деталь – шутка, включенная в ответ, но «излишняя» с точки зрения целей самого процесса. Именно эта «вольная» деталь позволяет предположить, что речь о. Симеона Субботина была зафиксирована дословно.
Применялись ли по отношении к нему «дополнительные меры» или о. Симеон считал, что в его лета недостойно лицемерить, но на вопрос об отношении к политике партии он дает ответ: «Советская власть руководит неправильно» [ПермГАНИ. Ф. 641/2. Оп. 1. Д. 16482. Л. 8, 10]. В данном случае установить подлинность ответа по стандартизованной форме не представляется возможным. Однако итогом было постановление «тройки» от 16 / XI – 1937 г.: «Субботина Семена Петровича заключить в ИТЛ сроком на 10 лет». Тут же извещение: «30-го / XI – 1937 убыл в Каргапольлаг НКВД. Других сведений о дальнейшей судьбе нет». В 1956 г. на запрос родственников будет дан формальный ответ: «…заключенный Субботин С.П., 1869 г.р., отбывая срок наказания, умер в Кар- гапольлаге 3 января 1938 г. от паралича сердца». О том, насколько подобные ответы соответствовали действительности, можно судить по примерам, приведенным далее. Отец Симеон в 1958 г.был реабилитирован посмертно.
Встречаются и удивительные примеры мужества, когда подследственные не опровергают показаний свидетелей в отношении себя самих, но отказываются от «сотрудничества» со следствием, понимая, что каждое слово может стоить жизни кому-то еще. Федор Васильевич Бахматов – это его мирское имя, по документам. «Информаторы» указывают на то, что подследственный – священник «тихоновской» ориентации, иеромонах. Личные сведения скупы: 1874 года рождения, до ареста жил в Юсьвенском районе Коми-Пермяцкого округа, начал служить до революции, в 1915 г. О монастыре и о местах службы не сообщает. Признает себя виновным в том, что, не имея постоянного места работы, «ходил по деревням и крестил, не имея разрешения» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 27496. Л. 19–24]. От него и еще нескольких священников добиваются показаний о деятельности мифической «союзной контрреволюционной организации» по отработанной НКВД «пирамидальной» схеме. Более крупными «мишенями» являются в этом случае Пермский епископ Глеб (Покровский), Свердловский – Петр (Савельев) и предстоятель Русской православной церкви митрополит Сергий (Страгородский). Но «выжать» из подследственного удается только одно: «Заявление. Следствие требует от меня признания о моем участии в контрреволюционной организации церковников. Категорически заявляю , что показаний давать не буду. Ф. Бахматов. 27 октября 1937 г.» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 27496. Л. 26].
Решительность этого заявления, а также вынесенный приговор позволяют предположить, что Ф. Бахматов, действительно, отказался давать показания. На каждом допросе в протоколе значится: «Ни о какой организации не знаю и ни от кого не слышал»; «На данный вопрос отвечать не буду и в дальнейшем прошу таких вопросов не задавать ».
Однако в «плановых» процессах 1937 г. обвинительное заключение не зависело от признания или непризнания вины. Содержание приговора определяется стечением факторов – конъюнктурой, «прозорливостью» следователя и «словоохотливостью» информаторов: «Бахматов Ф.В. является активным участником к/р фашистской повстанческой организации церковников. Выполняя задачи к/р организации и не занимаясь общественно-полезным трудом, ходил по деревням, крестил взрослых и детей, вел к/р агитацию. Собирал шпионские сведения об экономическом и политическом состоянии колхозов и настроении населения. Показания о своем участии в к/р фашистской организации давать отказался. Виновным себя не признал, но прочитал показания (перечисляются имена осведомителей)» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 27496. Л. 30]. В конце дела – приговор «тройки» от 2/XI – 1937 г.: «Расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 27496. Л. 31]. Приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. В 1989 г. к делу приложена справка о реабилитации.
По мере знакомства с делами репрессированных священников у историков и архивистов естественно появляются свои привязанности – обычно к тем, кто уже прославлен как мученик за Христа, или «кандидат» на прославление.
Священномученик Димитрий Овечкин – типичный деревенский «требный» батюшка, служивший в Прокопьевской церкви села Кузнечиха Осинского уезда. Родился в 1877 г. в крестьянской семье. И, наверное, немало пришлось ему приложить усилий для того, чтобы получить образование – в Казанской учительской семинарии. Сан священника он принял в 32 года. Рукополагал его в 1909 г. епископ Палладий. «Крестный путь» начался для о. Димитрия с 1922 г., когда он отказался участвовать в комиссии по передаче церковных ценностей. Тогда его впервые осудили на шесть месяцев условно, а в 1930 г. определили реальный срок – три года концлагеря по обвинению в «организации выступлений против проводимых советской властью мероприятий».
В год Большого террора он снова попал в поле зрения НКВД. Нашлись люди, согласившиеся дать против него свидетельские показания: будто бы говорил о неурожае и охватившем Россию голоде, о крайне трудных условиях жизни, когда ему, священнику, было невозможно устроиться на работу (на иждивении у батюшки была семья – жена и трое детей), и о том, что партийное руководство переключает внимание людей с экономических проблем на «зрелища». Что в этом было правдой, а что измышлениями?
В анкете по делу 37 г. обращает на себя внимание выразительная деталь, отмеченная следователем: «На груди наколот тушью крест». Видимо, был опыт – в лагере нательные крестики отни- мали. Протокол фиксирует жесткий тон и напряженную обстановку допроса: о. Димитрий связи с другими подследственными и разговоры на политические темы не подтверждает, о существовании «контрреволюционной организации» сообщить ничего не имеет. Попытки следователя оказать давление – в протокол занесены слова «Вы лжете» – вызывают один ответ: «Я следствию дал правдивые показания и больше добавить ничего не могу». Показания других подследственных о якобы завербованных им «членах организации» не признал [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12783. Л. 42– 82].
В данном случае о тогом что позиция о. Димитрия во время следствия была неизменной, свидетельствует сравнение протоколов его допросов с протоколами других участников процесса. В них не отражена подобная твердость.
По делу проходило семь человек. Двое, о. Димитрий Овечкин и о. Николай Увицкий, 4 ноября 1937 г. были приговорены к «расстрелу». Приговор привели в исполнение 14 ноября. А родственники долгие годы не имели достоверных сведений о судьбе о. Димитрия. Даже после смерти Сталина, в 1957 г., на запрос вдовы священника был дан заведомо ложный ответ согласно установленной форме: «Овечкиной Ольге Григорьевне объявить устно, что Овечкин Дмитрий Киприяно-вич 4 ноября 1937 года осужден на 10 лет ИТЛ, находясь в местах заключения умер 5 декабря 1941 г. от пеллагры. Смерть зарегистрировать в Загсе Осинского райисполкома» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12783. Л. 6].
Среди особенно запомнившихся – история священника Константина Воронцова. Для воссоздания человеческого и духовного облика священника важно сопоставление сведений о нем по делу 1937 г. и по делам более раннего периода. Привлеченный как «диверсант» в 1937 г., во время Гражданской войны о. Константин Воронцов выступал настоящим примирителем, по-евангельски, милуя тех, кто страдал или кому грозила опасность. В 1919 г. его впервые арестовали за «контрреволюционную агитацию». Сочинители доноса в ГубЧК особенно поусердствовали, расписывая то, как батюшка служил панихиды по белогвардейцам, убиенным и умершим в тюрьме при «красных», а в проповеди «призывал помнить Завет Бога о любви друг к другу, чтобы поскорее кончилась война». И не избежать бы тогда о. Константину расстрела, если бы поручителями за него не выступили коммунисты, члены Исполкома, заявившие, что при «белых» батюшка посещал их, арестованных, в Оханской тюрьме: передавал продукты, некоторым давал у себя приют и очень многих спас от верной смерти своим пастырским заступничеством [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11084. Л. 20–22].. В ЧК подумали и постановили: «За к/р деятельность заключить Воронцова в концентрационный лагерь на все время Гражданской войны без привлечения к нему амнистии, с привлечением к принудительным работам». Однако через десять дней, видимо, под давлением, – за освобождение о. Константина подали тогда подписи около 400 человек – передумали и выпустили «на поруки», а через два месяца и вовсе амнистировали [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11084. Л. 36].
Через десять лет, в 1930 г., в ОГПУ начинают поступать «сигналы» от односельчан о том, что «поп Костя призывает не ходить на митинги и спектакли, не благословляет девиц замуж за комсомольцев и агитирует против вступления в колхоз» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8031. Л. 68]. «Поручителей» не нашлось, и о. Константину определили наказание в три года концлагеря [Перм-ГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8031. Л. 167].
Заведенное в 1937 г. на о. Константина дело по сравнению с предыдущими выгладит коротким. Он проходит как второй по значению участник процесса. Из документов, касающихся его лично, – анкета и один протокол допроса. В обвинительном заключении переданы показания «информаторов» о том, что батюшка якобы «является членом контрреволюционной группы», готовившей диверсии на значимых объектах (происхождение этой «легенды» откроется далее. – М.Д., Н. Д. ), «ведет антисоветские разговоры», «присвоил функции ЗАГСА», «умышленно задерживал верующих в церкви до 11 часов дня» [ПермГАНИ. Ф. 643/1. Оп. 1. Д. 9534. Л. 119–120]. Отец Константин Воронцов не признал вины, однако 13 октября 1937 г. по приговору «тройки» получил 10 лет ИТЛ. Был реабилитирован в 1989 г.
Еще одна история – сельского священника Иакова Носкова из села Вереино ВерхнеГородского района. Дело также представляет интерес с точки зрения «тестирования» текстов на достоверность. На этот раз перед следствием семидесятилетний старец. Из крестьян, образование низшее. В 1929 г. присудили два года лишения свободы и пять лет высылки за неуплату хлебного налога. В 37-м попал под «плановую зачистку».
За политической формой сфабрикованных дел 1937 г. не всегда удается увидеть яркие примеры свидетельства веры . Из протоколов допроса о. Иакова: «В церковь служить я пошел сознательно, я хотел заменить расстрелянных советской властью священников, погибших за веру Христову. <…> Я решил, что мое место должно быть в рядах борцов за Церковь, за религию и в 1926 г. поступил на службу. <…> Я внушал верующим не допускать закрытия храмов. Сколько бы советская власть ни издевалась над нами, ни кощунствовала, придет же время, когда мы снова увидим счастливую жизнь» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26519. Л. 14, 18].
Имен никаких он не назвал, но упоминул о том, что на предложение кого-то из односельчан временно укрыться отвечал так: «Будь что будет. Куда укроешься?» – и добавил: «Пусть меня расстреляют, я не боюсь. <…> Если я пострадаю от советской власти, я получу от Бога награду – рай» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26519. Л. 13, 22]. Батюшка признает, что вел «контрреволюционные разговоры» с колхозниками, но не призывал к сопротивлению или свержению власти, а говорил только следующее: «Советская власть в рай гонит. <…> Только Богу одному известно, когда падет советская власть. Когда Бог увидит наши праведные дела, может послать нам избавление. <…> Советская власть дана нам за грехи наши» [ПермГАНИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26519. Л. 14]. В пользу того, что слова священника записаны дословно или близко по смыслу, говорит то, что в протоколе встречаются не имеющие значения для хода процесса «слишком личные» речевые обороты: «хотел заменить священников, погибших за веру Христову», «пусть меня расстреляют, я не боюсь…» – и, наконец, отражается не политическое, а духовное осмысление происходящего и указывается выход: «советская власть дана нам за грехи наши » и «когда Бог увидит наши праведные дела , может послать нам избавление».
Выписка из протокола заседания «тройки»: «Постановили: Расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать». Из акта: «Приведено в исполнение 20 / IX – 37 в 24.00» [ПермГА-НИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26519. Л. 26, 29].
Когда в 1989 г. дело отца Иакова попало под действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-х – 40-х и нач. 50-х годов», родственникам в связи с реабилитацией было рекомендовано выдать письмо о его смерти «без указания причин».
***
В конце 30-х – начале 40-х гг. были «изобличены» те, чьи имена стали для миллионов людей олицетворением Большого террора, уволены из следственных органов и осуждены «за применение незаконных методов следствия» лица, проводившие расследование дел 1937-1938 гг. Тогда же по заданию сверху было проведено и расследование действий некоторых бывших сотрудников НКВД в Перми.
Приведем фрагменты протоколов допросов свидетелей по делу главных обвиняемых.
«Начало в применении извращенных методов было положено б. / нач. Особого отделения МОЗЖЕРИНЫМ в июле 1937 года при ведении следствия по делу контрреволюционной организации, которой было присвоено название “Общество трудового духовенства”. По этому делу было арестовано свыше 30 человек. В это время в Перми находился бывший нач. УНКВД ДМИТРИЕВ. Ознакомившись с ходом следствия, он взял с собой некоторые протоколы допросов обвиняемых и вернул их в переработанном виде <…> с предложением подписать протоколы в таком виде обвиняемыми. Это указание было выполнено лично МОЗЖЕРИНЫМ. Из арестованных создали организацию всесоюзного масштаба, присвоили ей название, о чем не говорили сами обвиняемые» [Перм-ГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12396. Т. 6. Л. 118].
«Выполняя указания ДМИТРИЕВА, Особый Отдел 82 стрелковой дивизии в лице его бывшего начальника МОЗЖЕРИНА избрал в качестве объекта мнимой диверсии строящийся оборонный завод № 98 и железнодорожный Камский мост. Между тем, в распоряжении МОЗЖЕРИНА никаких материалов или каких-либо уликовых данных о готовящихся <…> диверсионных актах не было. Тем не менее все арестованные были привлечены к уголовной ответственности и осуждены к ВМН как шпионы и диверсанты и как участники искусственно созданной МОЗЖЕРИНЫМ шпионско-диверсионной организации, а принимавшие активное участие в реализации этого фиктивного дела: МОЗЖЕРИН, ДЕМЧЕНКО и ПОНОСОВ были НКВД СССР награждены боевым оружием и металлическими часами» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12396. Т. 6. Л. 119].
В начале 50-х гг. по фактам злоупотреблений в ходе процессов 1937–1938 гг. были проведены дополнительные расследования.
Приведем фрагмент из обзорной справки по делу о бывших уполномоченных НКВД: «Указанные лица (бывшие следователи и уполномоченные. – М.Д., Н. Д. ) 23 июня 1941 г. были осуждены Военным Трибуналом НКВД Уральского Военного Округа к ВМН. Из материалов дела видно, что СОЛОВЬЕВ и ПОПЦОВ были признаны виновными в том, что, работая в Ворошиловском райотделе НКВД в период 1937 – 38 годов, проводили массовые необоснованные аресты советских граждан, а в ходе следствия по делам арестованных применяли недозволенные методы допросов, занимались подлогом и фальсификацией следственных документов. В результате этих действий на территории Ворошиловского района было искусственно создано ряд несуществующих антисоветских организаций: шпионских, диверсионных, вредительских, террористических, повстанческих, националистических и т.д. <…> Как показали обвиняемые и многочисленные свидетели, к проведению массовых арестов были привлечены все сотрудники РО НКВД (перечисляются фамилии). Как видно из материалов дела, аресты граждан производились без соответствующих поводов и оснований, на основе заранее подготовленных списков, независимо от того, имелись ли на этих людей компрометирующие материалы или их не было, <…> а факты “преступной деятельности” обвиняемых излагались в зависимости от того, как сработает фантазия следователя. <…> В ходе следствия применялись метод камерной обработки, провокации, получения от арестованных заявлений с признанием своей вины, уговоры, холодный карцер, угрозы и запугивание. <…> Старший следователь следственного отдела Управления Госбезопасности при Совете Министров СССР по Молотовской обл. лейтенант В. Балков. 16 мая 1957 года» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12385. Л. 49].
И все же историческая справедливость – вещь относительная. Родственников пострадавших ожидали долгое хождение по инстанциям, уклончивые ответы, полуправда, а в некоторых случаях – и такое «утешение», которое заслуживает того, чтобы быть отмеченным.
Среди репрессированных в 1937 г. священников Пермской епархии был и о. Иосиф Калашников из д. Ананиной Чернушинского района. Обвинение стандартное: «Участие в к/ р организации». Постановление о расстреле и конфискации имущества вынесено «тройкой» НКВД 25 сентября 1937 г. [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13385. Т.2. Л. 134–135]. В деле содержится и выписка из акта о том, что приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 г. [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13385. Т.2. Л. 137]. В 1958 г. о. Иосиф был реабилитирован посмертно. На запрос вдовы последовал ответ согласно инструкции: «Находясь в местах заключения, умер 26 января 1944 г. от кровоизлияния в мозг» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13385. Л. 11], а в 1964 г. – и удовлетворение прошения о компенсации конфискованного имущества: «Всего подлежит возмещению из средств союзного бюджета 46 руб. 59 коп. (сорок шесть руб. пятьдесят девять коп.)» [ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13385. Т. 2. Л. 306]. Такую компенсацию получили одинокая женщина и пять ее детей. Примерно столько стоила тогда пара туфель.
Обращение к судьбам пострадавших за веру не должно становиться поводом для возбуждения чувства мести. Образованные и не очень образованные, кроткие, но нередко и обличающие своих палачей во время следствия, они сознавали, что становятся жертвой за Христа, и, твердо веруя в то, что «врата ада не одолеют Церковь», надеялись только на то, что время вернет им добрую память.
Список литературы «Оглядываясь на тридцать седьмой»: следственные дела священников, пострадавших в Перми в годы Большого террора
- Antonow-Owsejenko A. Stalin. Portrat einer Tyrannei. Munchen, 1992.
- Conquest R. The Great Terror, 1934-1938. London, 1968.
- Medvedev R. Let History Judge. The Origins and Consequences of Stalinism. Oxford, 1989.
- Агафонов П.Н. Епископы Пермской епархии 1918-1928 гг. Пермь, 1997.
- Балмасов С.С. Красный террор на востоке России в 1918-1922 гг. М., 2006.
- Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб»: Церковное подполье в СССР. М., 2008.
- Вяткин П. Пермские архипастыри -новомученики. Пермь, 2000.
- Васильева О.Ю. Государственно-церковные отношения советского периода: периодизация и содержание. URL: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/030317162928.htm (дата обращения: 08.10.2013).
- Васильева О.Ю. Церковь новомучеников. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/1457.htm (дата обращения: 08.10.2013).
- Годы террора. Книга памяти жертв политических репрессий. Ч. 6, т. 3. Пермь, 2011.
- Головкова Л.А. Бутовский полигон и «Коммунарка». URL: http://www.pseudology.org/Abel/Butovo.htm (дата обращения: 08.10.2013).
- Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. М.; Тверь. 1992-2002.
- Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, 1937-1938//Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти/сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2004.
- Мазырин А., свящ. Подвиг новомучеников и исповедников Российских как плод тысячелетнего духовного возрастания России//Церковь и время. 2012. № 1 (58).
- Мазырин А., свящ. Значение подвига новомучеников и исповедников Российских//Церковь и время. 2009. № 1 (46).
- Мазырин А., свящ. Крестный путь Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) на Урале (1926-1937)//Православие в судьбе Урала и России: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 18-20 апреля 2010 г.). Екатеринбург, 2010.
- Мазырин А., свящ. Подвиг новомучеников и исповедников Российских как основа единства Церкви и Народного единства. URL: http://pstgu.ru/news/life/science/2012/05/31/37740/; http://www.patriarchia.ru/db/text/2257926.html (дата обращения: 08.10.2013).
- Мазырин А., свящ. Советская власть vs Церковь. URL: http://www.pravmir.ru/antireligioznaya-politika-sovetskoj-vlasti-i-reakciya-cerkvi-na-nee (дата обращения: 08.10.2013).
- Мазырин А., свящ. Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников Российских//Журнал Московской Патриархии. 2011. № 6; 7. URL: http://pstgu.ru/news/life/science/2011/05/10/29723/(дата обращения: 08.10.2013).
- Мелентьев Ф. «В 1937 году в центр полетели телеграммы с просьбой увеличить лимит арестов» Заметки об открытой лекции «Бутово -русская Голгофа». URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/57901.htm (дата обращения: 08.10.2013).
- Митрофанов Г., прот. Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века. М., 2011.
- Нечаев М.Г. Красный террор на востоке России//«Мудрость мира сего есть безумие перед Богом»: IV Краевые православные Феофановские чтения. К 90-летию «Красного террора» в России. Пермь, 2009.
- Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917-1922. Пермь, 2004.
- Нечаев М.Г., Уткин С.В. Исполнение приказа № 00447 в среде православных Пермской епархии//Сталинизм в советской провинции 1937-1938 гг.: Массовая операция на основе приказа № 00447./cост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. М., 2009.
- Русская Православная Церковь. ХХ век/под ред. Архим. Тихона (Шевкунова). М., 2008.
- Сталинизм в советской провинции 1937-1938 гг.: Массовая операция на основе приказа № 00447/cост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. М., 2009.
- Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание: документы и материалы: в 5 т. 1927-1939/гл. ред совет: В.Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола и др. М., 1999-2006.
- Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 1700 -2005. М., 2007. Гл. 2.
- Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. М., 2005.