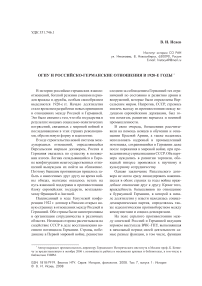ОГПУ и российско-германские отношения в 1920-е годы
Автор: Исаев В.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736946
IDR: 14736946 | УДК: 351.746.1
Текст статьи ОГПУ и российско-германские отношения в 1920-е годы
В истории российско-германских взаимоотношений, богатой резкими сменами периодов вражды и дружбы, особым своеобразием выделяются 1920-е гг. Начало десятилетия стало временем разработки новых принципов в отношениях между Россией и Германией. Это было связано с тем, что оба государства в результате мощных социально-политических потрясений, связанных с мировой войной и последовавшими в этих странах революциями, обрели новую форму и идеологию.
В ходе строительства новой системы международных отношений, определявшейся Версальским мирным договором, Россия и Германия оказались по существу в положении изгоев. Логика складывавшейся в Европе конфигурации межгосударственных отношений вынуждала их пойти на сближение. Поэтому бывшим противникам пришлось забыть о нанесенных друг другу во время войны обидах, выгоднее оказалось встать на путь взаимной поддержки в противостоянии блоку европейских государств, возглавляемому Францией и Англией.
Подписанный в ходе Генуэзской конференции 1922 г. договор в Рапалло открыл новую страницу в отношениях между Россией и Германией. Обе страны были заинтересованы в организации сотрудничества в различных областях. Немецкая сторона рассчитывала на содействие СССР в деле восстановления военного потенциала Германии. Страны, победившие в Первой мировой войне, ревностно следили за соблюдением Германией тех ограничений по состоянию и развитию армии и вооружений, которые были определены Версальским миром. Напротив, СССР, стремясь извлечь выгоду из противостояния между ведущими европейскими державами, был готов помогать развитию вермахта и военной промышленности.
В свою очередь, большевики рассчитывали на помощь немцев в обучении и оснащении Красной Армии, а также надеялись использовать кадровый и промышленный потенциал, сохранявшийся в Германии даже после поражения в мировой войне, при проведении индустриализации в СССР. Оба партнера нуждались в развитии торговли, обоюдный интерес проявлялся к научному и культурному сотрудничеству.
Однако заключение Рапалльского договора не могло сразу ликвидировать накопившееся в обеих странах за годы войны враждебное отношение друг к другу. Кроме того, враждебность большевиков по отношению к буржуазной Германии, в которой в начале десятилетия у власти находилась социал-демократическая партия, определялась также идеологическим противоборством между коммунистами и социал-демократами.
На поле скрытого противостояния между советской Россией и Германией ведущим игроком выступала ВЧК–ГПУ, выполнявшая в начальный период своей деятельности самые разные функции, в том числе, функции разведки и контрразведки. Чекисты осуществляли наблюдение за гражданами Германии, прибывавшими на территорию СССР, а также и за всеми лицами немецкой национальности, проживавшими в стране.
В борьбе с потенциальными немецкими шпионами ведомство Дзержинского не особенно заботилось о соблюдении общепринятых правовых норм. В связи с этим возникало определенное противостояние между ГПУ и НКИД. Одним из первых конфликтов вокруг советско-германских отношений стало дело немецкого кинематографиста Бартельса, представителя ВОГРУ Германии (военной группы), прибывшего в 1921 г. в советскую Россию с деликатной миссией: выяснить возможности сотрудничества в военной области. Чекисты установили слежку за показавшимся им подозрительным немцем, а затем арестовали его после проведения несанкционированного обыска в занимаемом им помещении.
На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 20 октября 1921 г. обсуждался промах ВЧК, помешавшей своим излишним рвением деятельности Бартельса по установлению контактов между военными ведомствами. По предложению Троцкого было принято решение «строжайше наказать тех чекистов, которые произвели обыск и арест; дать строжайшую инструкцию Уншлихту и создать еженедельное совещание его с представителями НКИД и РВСР. Извиниться перед ВОГРУ в Германии и создать для ее представителей простейший способ принесения жалоб» 1.
Действия чекистов периодически вызывали напряженность в отношениях между ГПУ и НКИД. Так, на заседании Политбюро 22 июня 1922 г. представители НКИД вновь вынуждены были поставить вопрос о недопустимых действиях чекистов по отношению к иностранным дипломатам. В результате обсуждения проблемы было принято следующее решение: «ГПУ не принимать никаких репрессивных мер по отношению к членам иностранных дипломатических миссий [….] без предварительного согласования с одним из членов коллегии НКИД. Постановление распространяется не только на аресты, но также и на обыски, посещение агентами ГПУ квартир, задержание на улице или где бы то ни было» 2.
На протяжении 1920-х гг. конфликт между двумя ведомствами то подспудно тлел, то вновь вспыхивал ярко и открыто. Руководство большевистской партии пыталось различными способами примирить стороны, организовать сотрудничество между ними. Так, на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 8 февраля 1923 г. вновь обсуждался вопрос о взаимоотношениях чекистов и дипломатов. Для урегулирования возникающих между НКИД и ГПУ проблем была создана специальная комиссия, в которую вошли Уншлихт, Литвинов и Молотов 3.
Наметившееся противостояние между ГПУ и НКИД отражало реальное противоречие между тайным курсом большевистской партии на организацию мировой революции и широковещательно провозглашенным лозунгом мирного сосуществования двух систем. Именно ведомство Дзержинского выступало важнейшим инструментом подготовки мировой революции и помощи коммунистам в других странах.
Названные обстоятельства позволяют понять, почему, несмотря на обещание в Ра-палльском договоре режима благоприятствования для деловых и частных поездок граждан, немцы, приезжавшие в Россию, попадали под бдительное око ГПУ и нередко оказывались под следствием и судом. Таким образом, с самого начала «дружбы» между советской Россией и Германией периодически возникали эпизоды напряженности в отношениях и поводы для взаимных обвинений. Наибольшего накала ситуация достигала в случаях организации показательных судебных процессов, на которых в качестве обвиняемых представали граждане другой стороны. Самыми громкими процессами рассматриваемого периода стали рассмотренное Конституционным судом в Лейпциге в феврале – апреле 1925 г. «дело германской ЧК» и показательный суд над тремя студентами Берлинского университета, прошедший в июне – июле 1925 г. в Москве.
Как это ни удивительно, но до сих пор ни немецкие, ни российские историки не рассматривали эти процессы подробно, ограни- чиваясь лишь беглым упоминанием о них. Между тем оба процесса, бесспорно, заслуживают более обстоятельного анализа 4.
Дело «германской ЧК» возникло на фоне грубого вмешательства ГПУ и большевистской партии в развитие ситуации в Германии. После крупного конфликта, возникшего из-за нелегальных поставок советского оружия для немецких коммунистов, и обысков, проведенных в мае 1923 г. берлинской полицией в торговом представительстве СССР (так называемое «дело Петрова») [1. С. 86–88.] процесс «германской ЧК» стал новым, еще более громким скандалом.
В 1923 г., воспользовавшись нестабильностью экономического и политического положения Веймарской республики, обусловленной экономической разрухой и рурским кризисом, руководство советской России предприняло беспрецедентные для международной практики действия по ее свержению, активно помогая КПГ в захвате власти. Немецкие коммунисты запланировали на октябрь 1923 г. поднять восстания сразу в нескольких землях Германии. Руководство ВКП(б) и Коминтерн, принимавшие и до этого самое деятельное участие в подготовке пролетарской революции в Германии, развили в этот период лихорадочную активность. Здание Коминтерна в Москве стало штабом готовившегося переворота в Германии.
Коминтерн, созданный под эгидой большевистской партии в 1919 г., призван был всемерно помогать коммунистам европейских стран прийти к власти. При этом, исходя из удачного опыта российских коммунистов, ставку предполагалось делать в основном на вооруженное восстание. Перед немецкими коммунистами ставилась задача вооруженным путем установить в стране советскую власть, а в дальнейшем, возможно, добиться включения «пролетарской Германии» в состав СССР.
С лета 1923 г. из СССР на территорию Германии начинают переправляться легально, а еще в большей мере нелегально, «специалисты» в деле организации пролетарской революции. В руководстве Красной Армии обсуждаются планы продвижения в Европу войск на случай, если придется выступить на помощь восставшему рабочему классу Германии. В частности, решалась задача подготовки специальных формирований из военнослужащих немецкого происхождения или владеющих немецким языком. Ряд частей Красной Армии получили символические названия городов и земель Германии – Гамбург, Берлин, Рур, Верхняя Силезия и т. п. 5 Для оказания идейной и практической помощи КПГ, координации совместных действий осенью 1923 г. в Германию была отправлена бригада Коминтерна во главе с Карлом Радеком, состоявшая из видных членов большевистской верхушки (подробнее см.: [2]).
Однако «Октябрьская революция» в Германии не получилась, КПГ не смогла повторить успеха своих московских наставников. После ликвидации угрозы переворота и временного запрета КПГ начались судебные процессы против боевиков ее вооруженных групп. Вокруг коммунистов возникла атмосфера подозрительности, местами перераставшая в настоящую травлю 6.
Опасность идеологии и практики КПГ и были призваны, в частности, показать заседания Конституционного суда в Лейпциге по «делу германской ЧК», проходившие с 10 февраля по 22 апреля 1925 года. Обостренное внимание к процессу немецкой и мировой общественности было связано с тем, что в качестве обвиняемых в попытке вооруженного захвата власти и в организации ряда убийств перед судом предстали не только немецкие коммунисты. Заглавной фигурой процесса стал гражданин СССР Александр Скоблевский, он же Петр Александрович Горев, кроме того, он имел еще несколько псевдонимов. Как было объявлено на процессе, Скоблевский являлся высокопоставленным сотрудником ОГПУ, в немецкой печати его называли генералом.
В ходе следствия было установлено, что Скоблевский прибыл в Германию летом 1923 г. и действовал в роли советника при ЦК КПГ, отвечавшего за военно-техническую подготовку восстания. После захвата власти коммунистами в его миссию входила организация в составе пролетарского государства спецслужбы для борьбы против врагов революции, подобной советской ВЧК.
Кем же был на самом деле «генерал Скоб-левский»? Жизненный путь эмиссара ГПУ был типичным для представителя большевистской элиты, пришедшей в партию в ходе революции 1917 г. За свою жизнь он сменил несколько имен и фамилий, его настоящее имя – Вольдемар Рудольфович Розе. Родился он в 1897 г. в рабочей семье, принадлежавшей к балтийским немцам. В годы Первой мировой войны служил в царской армии, где получил звание прапорщика. В Гражданскую войну воевал на стороне большевиков, в РКП(б) вступил в 1918 г., обладал незаурядными организаторскими способностями, что позволило ему дойти до высоких постов в молодой Красной армии. В конце Гражданской войны Розе командовал 10-й стрелковой дивизией, а затем принадлежал к руководству Курсов усовершенствования высшего начальственного состава РККА «Выстрел».
Видимо, там его и присмотрели чекисты, перетащившие перспективного красного командира, владевшего немецким языком, в свое ведомство. ГПУ очень нужны были кадры, готовые нести знамя мировой революции в Германию. Вероятно, тогда же интерес к Розе проявила и военная разведка, тем более, что для нее в этот период Иностранный отдел ГПУ выступал в роли кузницы кадров.
Некоторое время Розе занимался оперативной работой в России, а в 1923 г. в составе весьма многочисленной «делегации», сформированной ГПУ и Коминтерном, выехал в Германию. Прибыв в Берлин, он развернул бурную деятельность. Остановившись в советском посольстве, он одновременно под фамилией Hermann снял комнату у одной берлинской старушки, чем обеспечил себе возможность нелегальной работы на явочной квартире.
Дел у посланца из Москвы было немало: действуя под псевдонимами «Горев» и «Герман», он развернул работу по созданию вооруженных групп при КПГ, а также по отбору и подготовке кадров для политической полиции будущего пролетарского государства – «германской ЧК». Дочерняя организация ГПУ на немецкой территории должна была решать задачи, аналогичные тем, которые Дзержинский со своими подчиненными выполнял в России. Похожи были и порядки: завербованные члены будущей немецкой ЧК подписывали клятвенное обещание, что они будут хранить в тайне все, связанное с их работой, а в случае предательства должны поплатиться жизнью.
При берлинской организации КПГ Скоб-левским была создана вооруженная группа «Т» под командованием известного своей безрассудной смелостью боевика Феликса Ноймана. Буква «Т» в обозначении группы вполне выражала ее суть, потому что главной ее задачей являлся террор против видных деятелей Веймарской республики.
Первой крупной операцией должно было стать убийство генерала фон Секта, командующего вооруженными силами Германии. Группой «Т» разрабатывались планы убийства ряда политических деятелей, а также крупных промышленников Штиннеса и Бор-зига, игравших видную роль в восстановлении экономики Веймарской республики. К счастью для намеченных жертв осуществлению задуманных терактов помешали различные обстоятельства.
В начале 1924 г. Скоблевский, недовольный чрезмерной осторожностью своих немецких коллег, их нерешительностью в организации терактов, решил предпринять меры устрашения против своих нерадивых учеников. Один из участников группы «Т» по фамилии Рауш, заподозренный в предательстве, был казнен по приказу Скоблевского, хотя серьезных доказательств его виновности не было.
Это убийство стало сигналом для германской полиции, что она имеет дело с серьезной и опасной группой террористов. Полиции удалось во время разгрома одной из коммунистических ячеек захватить списки членов группы Ноймана и другие ее документы. Весной 1924 г. были арестованы почти все участники группы и сам организатор «немецкой ЧК».
Очевидно, что после разгрома «германской ЧК» и ареста Скоблевского ОГПУ считало для себя делом чести нанести Германии ответный удар. Весной или в начале лета 1924 г. Дзержинский поручил своим сотрудникам разработать операцию по освобождению Скоблевского. В Германии хорошо понимали реальную угрозу попыток со стороны ОГПУ освободить Скоблевского, поэтому его содержали в строгой изоляции и даже закованным в кандалы. Так как организовать побег из немецкой тюрьмы не представлялось возможным, ОГПУ избрало другой вариант – предложить немецкой стороне обменять Скоблевского на захваченных на территории СССР граждан Германии.
В середине 1920-х гг. в советских тюрьмах, прежде всего, во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, томилось уже немалое число граждан Германии, приехавших в Россию либо по делам, либо в поисках впечатлений и приключений. Среди узников имелись даже немецкие коммунисты, эмигрировавшие в СССР, но по каким-либо причинам вызвавшие подозрение сотрудников Коминтерна или ОГПУ. Однако для переговоров с правительством Германии о возможном обмене на Скоблевского эти люди мало подходили: ведь требовались не просто граждане Германии, а захваченные с поличным крупные агенты германских спецслужб, значимость которых была бы сопоставима с личностью Скоблевского.
Поэтому в ОГПУ возникла идея об организации показательного судебного процесса, на котором в качестве обвиняемых предстали бы немецкие граждане, уличенные в шпионской или террористической деятельности на территории СССР. Этот суд с самого начала замышлялся как ответ на процесс против «германской ЧК». Планировалось предложить Германии обмен Скоблевского и его коллег на немецких граждан, которые будут осуждены в СССР. Оставалось только найти подходящих кандидатов на роль подсудимых на таком процессе.
Видимо, не случайно 9 июля 1924 г. начальник контрразведывательного отдела
ОГПУ Артузов направил всем подразделениям циркулярное письмо, в котором были поставлены политические и оперативные задачи работы на немецком направлении 7. В письме утверждалось, что германская разведка ведет активную работу в России, выясняя ее возможности военного и экономического плана. С этой целью в страну якобы в массовом порядке засылаются шпионы или вербуются из числа советских граждан немецкой национальности. В ведении шпионской работы подозревались все корреспонденты немецких газет, аккредитованные в СССР. Несмотря на тесное сотрудничество в военной области, все сотрудники немецких фирм также рассматривались ОГПУ как вражеские разведчики.
Для борьбы с немецкими шпионами ОГПУ намечало провести ряд оперативно-розыскных мероприятий, в том числе: «Поставить на точный учет всех прибывающих немцев. Наладить связь КРО и административных отделов местных исполкомов, поставить на должную высоту контроль передвижения немецких граждан, особенно прибывших из-за границы и связанных с немецкими учреждениями.
…Усилить фильтрацию перебежчиков из Германии и политэмигрантов, перебежавших под видом членов германской коммунистической партии, преследуемых якобы германской полицией. Эти перебежчики часто являются беспартийными, бежавшими из Германии, большей частью из материальных соображений, зачастую с целью разведки. Всех перебежчиков, назвавших себя членами КПГ, приехавших без командировки или разрешения ЦК КПГ, после немедленной проверки их личности в соответствующих партийных организаций КПГ и в случае неподтверждения принадлежности к компартии привлекать к ответственности по 66 и 98 ст. УК» 8 (ст. 66, 98 УК предусматривали наказания за шпионскую деятельность, а также за въезд в СССР без должным образом оформленных документов. – В. И. ).
В октябре 1924 г. в раскинутые сети ОГПУ попалась группа из трех молодых немецких туристов, прибывших в Москву в середине этого месяца. В состав группы входили сту- денты Берлинского университета Карл Кин-дерман, Теодор Вольшт и Макс фон Дитмар. В роли руководителя группы выступал самый молодой из них – Карл Киндерман, который, несмотря на свой юный возраст – 21 год, уже успел окончить названный университет и приобрести тем самым звание доктора философии. Вольшт, которому было 24 года, завершал обучение в университете. Двое из прибывших – Киндерманн и Вольшт – являлись гражданами Германии, а двадцатитрехлетний Дитмар был гражданином Эстонии. Он принадлежал к старинному роду прусских аристократов, имевших поместье в Прибалтике, родился как подданный Российской империи в эстонском городе Аренсбурге, в 1923 г. приехал в Германию для продолжения образования. В состав группы он был включен, по всей видимости, как знаток русского языка, так как Киндерман и Вольшт по-русски не говорили.
До сих пор остается загадкой – были ли студенты случайными жертвами в большой игре ОГПУ, или же чекисты намеренно заманили их в ловушку, обратив на группу внимание еще в Германии, на стадии получения виз для въезда в СССР. Последнюю версию считают вероятной некоторые авторы, упоминавшие об этой истории. Например, вдова руководителя немецкой секции Коминтерна в эти годы Хайнца Ноймана Маргарет прямо называет Макса фон Дитмара провокатором, заманившим двух своих спутников в расставленный ОГПУ капкан, однако убедительных доказательств этому не приводит [4. С. 25].
Действительно, есть обстоятельства, казалось бы, подтверждающие такую версию. Сначала в советское посольство за получением виз обратились только два студента – Киндерман и Вольшт, которым долгое время не удавалось получить какого-либо ответа. Но после включения в состав будущей экспедиции Макса фон Дитмара дело сдвинулось с мертвой точки. Макс заявил Кин-дерману, что у него есть хорошие связи в советском посольстве. На встрече, организованной Максом, знакомый ему сотрудник посольства Якубович посоветовал студентам для быстрого решения вопроса о визах вступить в КПГ. Кроме того, он пообещал, что им гарантирован радушный прием на территории СССР, если они приедут туда как коммунисты. Дитмар горячо поддержал эту идею и стал уговаривать двух своих товарищей вступить в КПГ.
Хотя Киндерман и Вольшт до этого вовсе не собирались становиться коммунистами, но для успеха задуманной ими экспедиции все же решились пойти на формальное членство в КПГ. Киндерман получил партбилет с помощью своего отца в родном городе Дурлахе. Вольшту то ли не удалось получить партбилет, то ли он не захотел пойти на этот шаг, решив, что достаточно будет объявить себя сочувствующим КПГ. Сам Макс фон Дитмар тоже получил партбилет в одной из берлинских ячеек КПГ, заявив там, что вступил в партию еще в 1923 г., но потерял документы из-за частых переездов, вызванных преследованием полиции.
Итак, в СССР поехали уже не просто немецкие студенты, а два члена КПГ и один сочувствующий. Знало ли ОГПУ заранее о сомнительном происхождении партбилетов – пока остается неясным.
Если же исключить вероятность такого хода событий, тогда причины ареста туристов кроются в их поведении в Москве. Несмотря на свою молодость, они везде афишировали себя как серьезную научную экспедицию, цель которой изучение Сибири, а также установление контактов с научной и студенческой общественностью СССР. Планы были чересчур грандиозными: студенты собирались посетить все наиболее интересные города в России и в Сибири, дойти до побережья Северного Ледовитого океана. При этом средства для их осуществления они надеялись получить в России.
Приехавшие студенты обратились в Нар-компрос за поддержкой, получили комнату для проживания и талоны на питание. Затем потребовали организовать им встречу с Луначарским, Крупской, Радеком. Иначе говоря, в их действиях присутствовал явный налет нескромности и авантюризма. Позднее, в обвинительном заключении по делу студентов будет записано, что именно Луначарский распорядился сообщить о странных посетителях в ОГПУ и попросил выяснить цели и обстоятельства их появления в СССР 9.
Новоявленные коммунисты установили контакт и с Коминтерном. Они были приняты руководителем немецкой секции Коминтерна
Хайнцем Нойманом, получили и там талоны на питание и место для проживания в Доме политэмигранта, находившимся под патронажем Коминтерна и, разумеется, под присмотром ОГПУ. Скорее всего, именно поэтому они оказались в поле зрения ОГПУ, чекисты организовали слежку за молодыми путешественниками.
Ночью 26 октября 1924 г. подозрительные немцы были арестованы в спальном помещении Дома политэмигранта и помещены во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке. На допросах студенты заявили, что они приехали в СССР с целью осуществить научную экспедицию в республику немцев Поволжья и в Сибирь. В подтверждение Карл Киндер-ман, представившийся руководителем экспедиции, предъявил приглашения от правительства республики немцев Поволжья, ректората Томского университета, а также письмо в адрес правительства Якутии. Кроме того, арестованные подчеркивали, что они являются вовсе не противниками, а союзниками большевистской партии и Советской России, так как прибыли в качестве членов КПГ, имеющих соответствующие рекомендации.
Действительно, среди документов, изъятых у студентов, чекисты обнаружили членские билеты КПГ и рекомендательные письма в различные советские представительства в Берлине, Риге и Москве. Но довольно быстро следователи ОГПУ установили, что партийный билет Киндермана выдан в 1924 г., хотя год вступления обозначен как 1920, осенью же 1924 г. в билет вклеены марки, якобы подтверждавшие уплату членских взносов за предыдущие годы. Подлинность членства в КПГ фон Дитмара также вызвала у следователей ОГПУ большие сомнения. Тем более, выяснилось, что он, вероятно, чтобы скрыть свою принадлежность к аристократии, выбросил приставку «фон» и добавил привычное для русских фамилий окончание – по партийному билету он числился Дитмариным.
Студенты поначалу восприняли свой арест как недоразумение и даже как интересное приключение, позволяя себе вольные высказывания и шутки на допросах и в тюремных камерах. Видимо, им казалось, что бояться ничего, кроме формального членства в КПГ никаких преступных действий против СССР они за собой не видели. Но, зацепившись за факт «подделки» партбилетов, руко- водство ОГПУ, видимо, уже решило: арест трех туристов представить как ликвидацию шпионской группы и раздуть из этого громкое дело, обещавшее политические дивиденды (подробнее см.: [3]).
Так немецкие студенты оказались случайными жертвами, а по сути заложниками в большой игре против Германии, организованной ОГПУ. Факт реального использования их как заложников подтвердил позднее тогдашний посол Германии в СССР граф Брокдорф-Рантцау. После суда над студентами он рассказал представителям немецкой прессы, что 24 февраля 1925 г. его пригласил к себе председатель СНК СССР А. И. Рыков и в ходе беседы дал понять, что обвинения против трех арестованных студентов, двое из которых – немецкие граждане, могут быть сняты и они будут отпущены, если процесс «по делу ЧК» в Лейпциге будет прекращен, а обвиняемые – прежде всего, гражданин СССР Скоблев-ский – будут освобождены [13. S. 148]. Таким образом, для немецкой стороны стало окончательно ясно, что дело студентов Берлинского университета будет использовано ОГПУ с целью их обмена на своих агентов, схваченных в Германии.
Но арест студентов был только частью широкомасштабной операции ОГПУ, в ходе которой предполагалось не только обменять арестованных на Скоблевского и его немецких коллег, но и предъявить мировой общественности доказательства шпионской и террористической деятельности социал-демократических и правых кругов Германии против СССР.
При этом Дзержинского и его подчиненных ничуть не смущало, что абсолютно никаких фактов враждебной деятельности арестованных туристов в отношении Советского государства установить не удалось. Тем не менее чекисты приступили к осуществлению намеченного плана. Вначале студентов обвинили в шпионаже, целью которого было якобы выяснение связей между КПГ и Коминтерном. А позднее (видимо, чтобы «приравнять» их к Скоблевскому) – в подготовке террористических актов против Сталина и Троцкого.
Конечно, чекистам очень хотелось представить мировой и советской общественности экспедицию студентов в качестве террористической группы. Оставалось только заставить арестованных сыграть те роли в политическом спектакле, которые для них предназначались. Поначалу бесконечные допросы студентов не давали нужных результатов. Так продолжалось около трех месяцев. Но в январе 1925 г. Макс фон Дитмар, по непонятным причинам изменив свою прежнюю позицию, подписал признательные показания, что вся экспедиция действительно была задумана с целью шпионажа и совершения террористических актов против высших советских руководителей.
Вероятно, протоколы с его «признаниями» были предъявлены Киндерману как подтверждение того, что арестованным студентам все равно не избежать карающей руки советского суда. 6 февраля 1925 г. Карл тоже подписал признательные показания. Как он утверждал на суде, а затем написал и в своей книге, опубликованной в 1931 г. в Германии, сделал это он не по своей воле, а находясь под гипнозом одного из сотрудников ОГПУ 10 (подробнее см.: [12. S. 98–99]). Но вполне возможно, что уставший от изнурительных допросов Киндерман таким образом просто решил довести дело до суда, надеясь, что в ходе открытого разбирательства станут очевидными нелепость и бездоказательность обвинений, придуманных следователями ОГПУ.
Конечно, Киндерман уже хорошо понял к тому времени, что чекисты могут держать их в тюрьме как угодно долго, пока не получат нужных показаний. К тому же следователи ОГПУ использовали при допросах немецких студентов все те приемы, которые затем стали широко применяться в период «большого террора» 1936–1938 гг. Здесь и ночные «конвейерные» допросы, и запугивание немедленным расстрелом, и угрозы в адрес членов семьи, и помещение в камеру провокатора.
К студентам поочередно подсаживали их соотечественника, некоего Баумана, представлявшегося им фашистом, якобы прибывшим в СССР из Германии летом 1924 г. и также попавшимся на подделке партийного билета КПГ. По всей видимости, именно разговоры с Бауманом, о содержании которых он подробно докладывал следователям, во многом помогли сотрудникам ОГПУ сфабри- ковать нужные им показания арестованных студентов. Полученных признательных показаний фон Дитмара и Киндермана казалось достаточно для составления обвинительного заключения по делу «немецких студентов-террористов». Один Вольшт по-прежнему упорно отрицал все предъявленные обвинения, но для завершения следствия это уже не могло стать серьезным препятствием.
Очевидно, что контроль за организацией следствия по делу немецких студентов осуществлял сам глава ОГПУ Дзержинский. Скорее всего, он участвовал в разработке или, в любом случае, в одобрении сценария показательного процесса над посланцами немецких контрреволюционных сил, якобы замышлявшими убийство Сталина и Троцкого. Кстати, участием Дзержинского, возможно, и объясняется несколько странное возведение Троцкого, находившегося к тому времени в опале, в статус главных вождей СССР вместе со Сталиным, которых якобы так рвались убить немецкие студенты.
Киндерман утверждал, что в феврале 1925 г. во время встречи в кабинете Дзержинского, на которой присутствовал ряд руководящих сотрудников ОГПУ, ему было сделано предложение: отказаться от немецкого гражданства, перейти на сторону СССР и разыграть роль фашиста и диверсанта на показательном суде. Комичность и абсурд ситуации, чего, по-видимому, не замечали увлеченные своим замыслом чекисты, заключались в абсолютном игнорировании фактической и правовой стороны дела. Дзержинский и другие высокопоставленные чины ОГПУ пытались объяснить Карлу, что совершенно неважно, совершал ли он какие-либо преступные действия против СССР или нет. Неважно и то, что законопослушному немцу предстояло обманывать суд, оговорив себя и своих товарищей. Важно другое – показательный процесс над «немецкими студентами-фашистами» должен помочь делу пролетарской революции в Германии. Иначе говоря, обвиняя Карла в том, что, являясь фашистом, он подделал партбилет КПГ, Дзержинский и его коллеги в то же время обращались к нему как к коммунисту, тем самым показывая надуманность обвинений.
Убедившись, что Карл не понимает важности возлагаемой на него «исторической миссии», Дзержинский потерял к нему вся- кий интерес и распорядился увести его. На обратном пути к месту заключения конвой, видимо, в отместку за несговорчивость, инсценировал сцену расстрела Киндермана [12. S. 113–117.]
События вокруг процесса «германской ЧК» и дела немецких студентов развивались в тесной взаимосвязи. В январе 1925 г., накануне процесса «ЧК», Политбюро ЦК РКП(б) образовало комиссию под руководством Пятницкого и Ягоды, которая должна была следить за «делом германской ЧК» и, в частности, разработать план освобождения Скоблевского [11. С. 297]. Перед комиссией была поставлена также задача контролировать содержание показаний Скоблевского в ходе судебного процесса в Лейпциге. Вероятно, у Политбюро были некоторые опасения, что Скоблевский в своих высказываниях может затронуть какие-либо секреты, касавшиеся деятельности ОГПУ и Коминтерна в Германии. Комиссия Политбюро даже решила подготовить проект выступления Скоб-левского на процессе. Видимо, была надежда переправить этот документ Скоблевскому через одного из защищавших его адвокатов, имевших связь с Коминтерном.
27 января 1925 г. на заседании Политбюро о предстоящем процессе в Лейпциге и о положении Скоблевского докладывал И. Ун-шлихт, видимо непосредственно курировавший его деятельность в Германии. По итогам обсуждения было решено: попытаться предотвратить процесс с помощью давления на правительство Германии, а если это не удастся, то поставить немецкую сторону перед фактом ответных действий – ареста и уголовного преследования немецких студентов в СССР [Там же. С. 288].
«Дело немецких студентов-террористов» стало предметом обсуждения на заседании Политбюро ЦК 7 февраля 1925 г., т. е. буквально на следующий день после того, как сотрудникам ОГПУ удалось заставить Кин-дермана подписать так называемое «признание». 12 февраля, продолжив обсуждение вопроса, Политбюро предложило советской прессе развернуть встречную пропагандистскую кампанию в ответ на публикации в европейских газетах, в которых выражались протесты против незаконного ареста студентов. Весьма многозначительным выглядит решение Политбюро отказать предста- вителям германского посольства во встрече со студентами, «так как это может побудить арестованных не давать в дальнейшем открытых показаний и уже данные взять обратно» [10. С. 66]. Видимо, члены Политбюро хорошо понимали истинную цену «признаний» немецких студентов.
В постановлении Политбюро от 12 февраля 1925 г. судьба арестованных немецких студентов откровенно ставится в зависимость от развития событий на процессе Скоблевско-го и его товарищей: «Считать необходимым максимальное использование этого дела в переговорах с германским правительством. Это дело связать с предстоящим коммунистическим процессом в Германии о “ЧК” и другими, в которых в качестве обвиняемых привлечены русские граждане» [Там же. С. 67].
С учетом всех обстоятельств, предшествовавших аресту трех молодых немцев и сопровождавших проводившееся по их делу следствие, становится очевидно, что Киндерман, Вольшт и фон Дитмар рассматривались не только чекистами, но и высшим руководством СССР в качестве заложников. Задуманный ОГПУ судебный процесс над «немецкими студентами-террористами», отправленными для убийства вождей СССР фашистской организацией, при этом якобы действовавшей в союзе с социал-демократами, должен был стать мощным ответом советской стороны на все судебные процессы на Западе против коммунистов и Коминтерна.
Логично предположить, что либо Дзержинский, либо его заместитель Менжинский согласовывали замысел и сценарий предстоящего суда, а точнее, политического «спектакля» со Сталиным. В курсе событий были и другие члены Политбюро ЦК ВКП(б).
НКИД был заинтересован в погашении разгоравшегося конфликта, так как под вопрос могли быть поставлены планы советской стороны добиться от Германии заключения нового всеобъемлющего договора. Договор в Рапалло, заложивший основу сотрудничества между двумя странами, уже не мог охватить все возникающие проблемы, необходимо было дополнить и развить его. Переговоры с Германией по этому поводу начались еще в 1924 г. и продолжались в 1925 г. Ориентация МИД Германии на сохранение «особых» отношений с СССР вынуждала немецкую сторону, в свою очередь, к весьма сдержанной реакции на явно неправомерный арест немецких граждан.
Чичерин попытался через Политбюро ЦК РКП(б) воздействовать на ОГПУ с целью добиться прекращения дела. Однако чекисты упорно вели свою игру, в которой группа студентов должна была выполнить отведенную ей роль. С подачи ОГПУ 21 февраля 1925 г. в газете «Известия» появляется сообщение о том, что в Москве арестована группа немецких шпионов, прибывших в страну под видом научной экспедиции. ОГПУ утверждало, что студенты, являясь на самом деле членами фашистской организации «Оргеш», подделали документы КПГ, чтобы под прикрытием партбилетов проникнуть в СССР. Как доказанный факт описывались зловещие планы группы по совершению террористических актов, хотя не было даже окончено следствие, не говоря уже о решении суда.
В ответ на публикацию в «Известиях» немецкий посол Брокдорф-Рантцау передал Чичерину документ, присланный из Германии: копию письма от коммунистической организации в г. Дурлахе в окружное бюро КПГ в Мангейме. В письме подчеркивалось, что утверждения ОГПУ о членстве Киндерма-на в организации «Оргеш» являются совершенной выдумкой. «Доктор Киндерман действительно является членом КПГ и не имеет никакого отношения к правым или националистическим организациям», – заявляли немецкие коммунисты 11.
Получив этот документ, Чичерин был крайне возмущен. 24 февраля 1925 г. он пишет письмо Дзержинскому, при этом копии письма направляет в адрес всех членов Политбюро и членов коллегии НКИД. Тем самым конфликт между ОГПУ и НКИД Чичерин намеренно сделал широко известным. Чичерин, предъявив копию письма немецких коммунистов, очень язвительно ставит перед Дзержинским вопрос: как можно было в течение столь долгого следствия не выполнить очевидных мероприятий по выяснению личностей арестованных студентов. Ведь достаточно было запросить ту организацию КПГ, к которой по документам принадлежали арестованные, чтобы выяснить подлинность их партийных билетов 12.
Полемика между чекистами и дипломатами по поводу грубой и неряшливой работы ОГПУ по делу немецких студентов разгорелась не на шутку. Политбюро вновь вынуждено было утрясать противоречия между двумя ведомствами. Дзержинский в письме Трилис-серу от 8 февраля 1925 г. с раздражением характеризует «отношения наши с НКИД как постоянно враждебные» 13. Забегая несколько вперед, можно отметить, что «дело студентов» и противостояние с НКИД, видимо, дались главе ОГПУ нелегко. В июле 1925 г. он подает заявление об отставке, однако Сталин уговорил его остаться на посту председателя ОГПУ, заверив, что доволен его работой, и обещая всяческую поддержку [9. С. 623].
Очевидно, что в этой ситуации ОГПУ понимало, что необходимо любой ценой добиться «признаний» от студентов. Признание их невиновности теперь означало для чекистов расписаться в собственной некомпетентности и фабрикации дела.
22 февраля 1925 г. в Лейпциге открылся суд над участниками группы Ноймана, которые обвинялись в убийстве Рауша, подготовке покушений на генерала фон Секта и других видных политических деятелей Германии. Процесс привлек внимание не только немецкой общественности, но и мирового сообщества в целом, он стал впечатляющим доказательством подрывной работы Коминтерна и ОГПУ в странах Европы. Процесс показал также истинные приоритеты руководства СССР и большевистской партии в области внешней политики, в том числе и в отношении Германии.
Необычным обвиняемым, фигура которого во многом определяла внимание к процессу и его политическое значение, стал Александр Скоблевский. Принадлежность его к ОГПУ отрицать было бесполезно. Тогда с подачи советского посольства адвокатами Скоблевского на судебном процессе была выдвинута довольно шаткая версия причин его ареста. Скоблевский просто случайно оказался в Берлине, возвращаясь из служебной командировки в Париж. Но вдруг он был незаконно арестован, а немецкая полиция задним числом сфабриковала все доказательства его нелегальной деятельности в стране, начиная с лета 1923 г.
Сам Скоблевский во время процесса вообще отказался отвечать на вопросы судей, предпочитая занимать позицию безвинно осужденного, которому перед лицом несправедливого суда бессмысленно доказывать свою невиновность. Он держался очень уверенно, как бы показывая, что лучшей позицией в данных обстоятельствах остается только презрительное молчание.
Но доказательств его причастности к организации «германской ЧК», как и виновности Скоблевского в организации убийства Рауша, у суда оказалось более чем достаточно. Вместе со своими немецкими коллегами – Ф. Нойманом и Э. Позе – Скоблевский был приговорен к смертной казни [13. S. 146]. Остальные участники террористической группы получили различные сроки тюремного заключения.
После начала процесса по «делу ЧК» в Москве окончательно решили провести показательный суд над немецкими студентами. Об этом свидетельствует постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 марта 1925 г. В нем, учитывая мощные протесты европейской общественности против явно затянувшегося содержания студентов под следствием в тюрьме ОГПУ, Менжинскому поручалось: «Формально (! – В. И. ) передать дело в Верховный Суд СССР… Следствие продолжить в прежнем порядке за полной ответственностью ОГПУ. Следствие закончить между 15 апреля и 15 мая» [10. С. 73]. Какой объективности следствия и соблюдения законности можно было ожидать после такого решения? Политбюро, по существу, давало санкцию ОГПУ на выбивание нужных показаний от арестованных студентов.
Выполняя решение Политбюро, ОГПУ объявило об окончании следствия и направило материалы по делу «немецких студентов-террористов» в Верховный Суд СССР. Следователь по особо важным делам при Верховном Суде И. Сосновский, нисколько не попытавшись проверить обоснованность выводов следствия, представил обвинительное заключение по делу немецких студентов в Президиум ЦИК СССР. При этом, нарушая нормы УПК, следователи ОГПУ не прекращали работать с подследственными, стараясь убедить их «правильно» вести себя на предстоящем суде.
Для проведения судебного процесса Президиум ЦИК СССР на заседании 20 марта
1925 г. решил временно включить в состав Верховного суда известного партийного деятеля и талантливого публициста Емельяна Ярославского, который своим красноречием должен был убедить всех наблюдавших за судом в виновности студентов и показать политическое значение данного дела. Пленум Верховного Суда СССР 25 мая 1925 г. постановил создать в Военной коллегии специальное судебное присутствие под председательством Ярославского. Двое других судей – В. В. Ульрих и П. А. Камерон – являлись постоянными членами Военной коллегии. Государственным обвинителем на процессе назначили старшего помощника Прокурора РСФСР Н. В. Крыленко, исполнявшего функции главного Прокурора республики (номинально тогда Нарком юстиции одновременно являлся и Прокурором).
Все эти приготовления подчеркивают то значение, которое в советском руководстве придавалось делу студентов. 27 мая 1925 г. Ярославский направил письмо Сталину, в котором изложил свои соображения по этому делу 14. Разумеется, Ярославский получил и соответствующие инструкции о том, как вести процесс «немецких студентов-террористов».
Однако в ходе судебных заседаний, проходивших с 22 июня по 3 июля 1925 г., убедительных доказательств какой-либо преступной деятельности немецких студентов на территории СССР получить не удалось. Не было установлено, несмотря на якобы уличающие показания Баумана и других подставных свидетелей, абсолютно никаких реальных действий по подготовке террористических актов, которые бы предприняли подсудимые.
-
Н. Крыленко выступил на процессе с трехчасовой речью, в которой назвал обвиняемых первым отрядом фашистов, готовивших нападение на СССР. Этот отряд, несмотря на то, что по признанию самого прокурора еще ничего не успел сделать, должен быть безжалостно уничтожен, чтобы показать решимость Советского государства защищать себя от всех возможных врагов.
Понимая, что независимые наблюдатели судебного процесса непременно будут отмечать отсутствие у суда серьезных доказа- тельств конкретных преступных действий подсудимых, Крыленко утверждал, что их признаний вполне достаточно для решения вопроса о виновности. К тому же, по его мнению, при защите интересов революции пролетарский суд не связан прежними «буржуазными» нормами. «Мы бросили в печь те лживые слова, которые написаны на фронтонах буржуазных судов», – заявил Крыленко. Об «объективности» прокурора хорошо говорит его заявление о том, что в защите безопасности Советского государства и его вождей «лучше переборщить, чем недобор-щить» 15.
В своем последнем слове Киндерман и Вольшт заявили, что не признают себя виновными и назвали все происходящее полным фарсом. Киндерман сказал, что высшей меры наказания достойны не они, а следователи ОГПУ, полностью нарушившие все требования законности 16. Оба держались очень спокойно и мужественно, несмотря на свою молодость и трагичность сложившейся для них ситуации.
Макс фон Дитмар выступил с последней длинной речью, скорее всего, судя по ее содержанию и лексикону, написанной для него сотрудниками ОГПУ. Об этом, в частности, свидетельствуют такие пассажи: «Я еще раз обращаю внимание Верховного Суда, что вся экспедиция является провокацией социал-демократии и берлинского полицей-пре-зидиума… Лживое буржуазное общество использовало нас в своих темных целях и оно отвечает за наши молодые жизни перед всем миром» 17.
Макс признал все обвинения справедливыми и заявил, что, хотя он и осознал свою вину и раскаялся, он все же достоин смерти за свои преступные замыслы против страны Советов. Такое заявление еще раз подтверждает, что вся его речь была написана сотрудниками ОГПУ, а в целом в обмен за предательство своих товарищей ему была обещана «красивая жизнь». Вряд ли любой нормальный человек на его месте стал бы так упорно требовать своей смерти.
Большинство присутствующих в зале суда уже понимало, что, независимо от убеди- тельности представленных в ходе следствия и суда доказательств, участь подсудимых была заранее предрешена. Но никто тогда еще не знал, что приговор и будущая судьба подсудимых действительно определены уже на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшемся 2 июля 1925 г., в постановлении которого было записано: «а) Дать суду директиву определить в приговоре высшую меру наказания по отношению ко всем трем подсудимым. б) Поручить т. Крыленко найти формальный повод для не приведения приговора в исполнение… не упоминая об этом в приговоре» [10. С. 84].
В 19 часов 2 июля 1925 г. суд удалился на совещание, оглашение приговора состоялось уже после полуночи – в половине первого ночи. Все трое, в том числе «раскаявшийся» и выступивший с «разоблачениями» своих товарищей фон Дитмар, были приговорены к смертной казни. Приговор был окончательным и не мог быть обжалован. У осужденных оставалась лишь возможность в течение 72 часов просить о помиловании.
Советская печать, а по сообщениям газет и вся советская общественность, встретила смертный приговор немецким студентам «с глубоким удовлетворением». На Западе же приговор вызвал бурю протеста, большинство газет писали о детоубийстве, совершаемом на глазах всего мира. Редактор берлинской газеты «Berliner Tageblatt» в передовой статье номера от 4 июля заявил, что процесс показал «нечистоты московской юстиции». По его мнению, в России, подавленной страхом перед террором большевиков, живое стремление молодых немцев к общению и исследованию, их веселый характер показались странными и вызвали подозрение в шпионской деятельности.
Родители Киндермана и Вольшта в интервью немецким газетам публично заявили, что Германия не проявила должной воли для защиты своих граждан и потребовали от германского правительства выступить с более решительным протестом. Стоит отметить, что неоправданно мягкая позиция Германии, достаточно скромные протесты правительства и МИД в связи с делом студентов вызвали серьезное недовольство немецкой общественности. Газета немецких социал-демократов «Форвертс» в номере от 29 июня 1925 г. язвительно писала: «Имперское пра- вительство позорно оставило своих граждан со времени их ареста под ударом. Причина – восточная ориентация министерства иностранных дел, которое пыталось избегнуть разногласий с СССР».
Зато в английских газетах не без злорадства обсуждали вероятность разрыва отношений между Германией и СССР в связи с протестами в немецком обществе и возможными в дальнейшем заявлениями правительства.
В этих обстоятельствах советское руководство, видимо, не решилось продолжать запугивать Германию расстрелом студентов. Возможно, что Сталин и руководство СССР опасались вызвать бурную негативную реакцию немецкой и мировой печати и общественности, которая действительно могла бы привести к серьезным осложнениям советско-германских отношений. Как зафиксировано в документах, хранящихся в ГАРФ, в полдень 6 июля 1925 г. в Верховный суд поступила телефонограмма из Президиума ЦИК СССР, в которой предписывалось немедленно приостановить исполнение смертного приговора до особого распоряжения. Судебное дело следовало срочно передать в Президиум ЦИК СССР 18.
8 июля 1925 г. газета «Известия» опубликовала сообщение из канцелярии Президиума ЦИК СССР о том, что по ходатайству родителей Киндермана и Вольшта, а также защитника фон Дитмара адвоката Оцепа Президиум принял решение о приостановлении исполнения приговора. Иначе говоря, чтобы успокоить мировую общественность, было объявлено, что казнь студентов откладывается.
Но окончательную отмену смертной казни студентов в Москве поставили в прямую связь с помилованием Скоблевского. Об этом Чичерин прямо заявил во время своего визита в Берлин в начале октября 1925 г. [15. А. Т. 14. S. 329]. 13 октября 1925 г. во время встречи с послом Германии в Москве графом Брокдорф-Рантцау Литвинов передал немецкой стороне предложение об одновременном помиловании приговоренных к казни в лейпцигском и московском процессах [15. А. Т. 14. S. 384].
В октябре Скоблевский и его два немецких товарища были помилованы, смертная казнь им была заменена длительными тюремными сроками. В ответ 31 октября 1925 г. на заседании Президиума ЦИК СССР было принято решение о помиловании немецких студентов. Расстрел им был заменен десятью годами лишения свободы со строгой изоляцией и последующим поражением в правах на пять лет 19.
Казалось бы, теперь настало время решать вопрос об обмене Скоблевского на студентов. Однако для обмена необходимо было согласие двух сторон. По различным причинам, рассмотрение которых лежит за рамками данной статьи, многие политические деятели в Германии были против такого обмена.
Чтобы принудить германское правительство поскорее решить вопрос об обмене Скоб-левского, ОГПУ предприняло новые угрожающие шаги. В конце 1925 и в начале 1926 г. в СССР были арестованы некоторые служащие консульств Германии в различных городах Советского Союза. В застенках ОГПУ оказались и немцы, приехавшие в СССР для работы на советско-германских предприятиях или по делам бизнеса, всего было арестовано более десятка граждан Германии [15. А. Т. 14. S. 476]. Против арестованных, как правило, выдвигались обвинения в шпионаже. Казалось, что в Москве полным ходом готовится новый громкий процесс против немецких шпионов.
По различным соображениям Германия еще была заинтересована в сохранении особых отношений с СССР и стремилась избежать нового скандала. После подписания советско-германского договора от 24 апреля 1926 г., в котором вновь подчеркивались дружественные отношения между СССР и Германией, начались долгие и тяжелые переговоры о взаимном обмене гражданами, находившимися в заключении на территории другой страны 20. В направленный в НКИД список немецких граждан, которых Германия хотела бы получить в ходе обмена, германское посольство включило фамилии Киндер-мана и Вольшта. 2 июля 1926 г. Народный Комиссариат иностранных дел обратился к Верховному Суду СССР с просьбой о вне- сении указанных осужденных в список лиц, подлежащих обмену 21.
В сентябре 1926 г. наконец состоялся обмен, в результате которого 14 граждан Германии были обменены на Скоблевского и трех других осужденных. [1. С. 185]. Таким образом, Киндерман и Вольшт получили наконец свободу, отсидев в тюрьмах негостеприимной для них Советской России без малого два года. В отличие от них фон Дитмару, попытавшемуся спастись за счет своих товарищей и покорностью следователям ОГПУ обеспечить себе «красивую жизнь», не повезло. По официальному заявлению НКИД, он, находясь в тюрьме, «умер от инфаркта» 26 марта 1926 г.
В результате обмена «генерал Скоблев-ский» возвратился в Москву. Правда, сразу после приезда из Германии чекист Розе не мог вернуться на службу в ОГПУ, по крайней мере, явно: это могло вызвать раздражение у немецкой стороны. Но, разумеется, он продолжал сотрудничать с военной разведкой и Иностранным отделом ОГПУ 22.
Вступление Германии в сентябре 1926 г. в Лигу Наций, которую большевистское руководство рассматривало как враждебную СССР организацию, возвращение Германии в европейское сообщество и постепенный отход от линии Рапалло привели к охлаждению советско-германских отношений. В конце 1920-х гг. обе стороны предпочитали больше не упоминать о былой «дружбе».
В литературе, посвященной советско-германским отношениям в 1920-х гг., часто подчеркивается их особый характер, опреде- лявшийся так называемым «духом Рапалло» (см., например: [5; 6]). Однако приведенные здесь материалы и факты свидетельствуют, что уже с самого начала советско-германской «дружбы» возникли и периодически обострялись серьезные противоречия, делавшие долговременное сотрудничество между двумя странами проблематичным и маловероятным. Разумеется, было бы ошибкой утверждать, что только действия ОГПУ были тому виной. Главной причиной такого положения было, прежде всего, то обстоятельство, что отношения советской России с другими государствами определялись с 1917 г. не столько реальными интересами страны, сколько идеологией правившей большевистской партии.
В истории международных отношений 1920-е гг. стали первым опытом взаимодействия так называемого государства диктатуры пролетариата с остальными «нормальными» государствами. Можно констатировать, что складывание отношений как с Германией, так и с другими государствами, кардинально осложнялось внешнеполитической доктриной большевиков, направленной по существу на конфронтацию с капиталистическим окружением. После завоевания власти в России для партии Ленина и Троцкого стратегической целью во внешней политике стала поддержка мировой пролетарской революции. Упрямо веря в догматы марксистской теории, большевики питали надежду, что вслед за Россией пролетариат должен вскоре победить в развитых странах Европы.
В русле такого понимания перспектив мирового развития строились и советско-германские отношения. Большевистское руководство считало, что возникшая в результате буржуазной революции 1918 г. Веймарская республика в ближайшем будущем должна быть ликвидирована революцией пролетарской. Поэтому, несмотря на дружественные декларации, Москва активно поощряла политические силы и действия, направленные на подрыв существовавшего в Германии общественно-политического строя.
В свою очередь, ведущие политические партии Германии выступали с резкой критикой установленной большевиками в России диктатуры, осуждали попрание прав и свобод граждан, политические репрессии. В этом контексте на фоне демонстративно провозглашаемого обеими сторонами курса на установление тесного сотрудничества в реальных отношениях между СССР и Германией постоянно присутствовали ноты недоверия и даже враждебности.
Можно отметить, что со стороны Германии вряд ли были искренними и серьезными заявления о дружественных отношениях с СССР, они больше использовались для давления на другие страны с целью скорейшего возвращения Германии в мировое и европейское сообщество. Что же касается советской стороны, то у сторонников налаживания дружественных отношений с Германией также было мало шансов на успех. В противоборстве обозначенных в начале статьи двух курсов во внешней политики советской России – на мирное существование двух систем и на мировую революцию – по большому счету всегда побеждали сторонники последнего, которых, прежде всего, и представляло ОГПУ. Так что совсем не случайно немецкому студенту Карлу Киндерману во время его конвоирования по коридорам Лубянки запомнился висевший перед кабинетом председателя ОГПУ лозунг: «Да здравствует ОГПУ – авангард мировой революции» [12. S. 50].
Материал поступил в редколлегию 12.10.2007