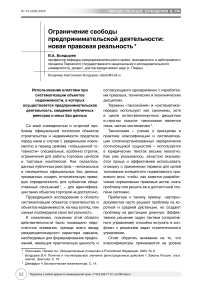Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
Автор: Болдырев Владимир Анатольевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 10 (229), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется деформация подхода к ограничению свободы предпринимательской деятельности в результате «идеального шторма» - совпадения по времени факторов пандемии, снижения мировых цен на углеводороды и конституционной реформы. Делаются выводы о целесообразности в ходе регулирования общественных отношений на период социальных и иных катаклизмов использования при конструировании нормативных правовых актов терминологии и кодов, отраженных в официальных классификаторах, оперирования данными публичных реестров при условии ихсвоевременной актуализации, исключения принятия и поддержки властью процедур, стимулирующих недобросовестное поведение ее представителей.
Ограничение свободы предпринимательской деятельности, коронавирусная инфекция, интерполяция права, официальные классификаторы, разница между типологией и классификацией
Короткий адрес: https://sciup.org/170173101
IDR: 170173101
Текст научной статьи Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
Со всей очевидностью и остротой проблема официальной типологии объектов строительства и недвижимости предстала перед нами в случае с введенными повсеместно в период режима «повышенной готовности» специальных, особенно строгих, ограничений для работы торговых центров и торговых комплексов. Как оказалось, данных публичных реестров – нелокальных и несекретных официальных баз данных, призванных создать относительную правовую определенность для субъектов общественных отношений 1, – для идентификации таких объектов торговли не достаточно.
Проводящиеся исследования в области систематизации объектов строительства и объектов недвижимости, на наш взгляд, тем самым подтвердили свою актуальность.
К сожалению, познанию этой области действительности было посвящено недостаточно внимания, прежде всего ввиду междисциплинарного характера навыков, необходимых для формулирования предложений, имеющих практическую ценность и согласующихся одновременно с наработками правовых, технических и экономических дисциплин.
Термины «таксоно ́ мия» и «систематика» нередко используют как синонимы, хотя в цикле естественнонаучных дисциплин в строгом смысле таксономия является лишь частью систематики 2.
Таксономия – учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей – используется в юридических текстах весьма неохотно. Как уже указывалось, зачастую оказывается проще и эффективнее использовать оговорку о применении термина для целей толкования конкретного нормативного правового акта, чтобы, как кажется разработчикам нормативных правовых актов, снять проблему или решить ее в достаточной степени системно.
Прибегнув к такому приему, «авторы» документов часто решают проблему на короткой и средней дистанции, но создают проблему на дистанцию длинную. Эффективное решение задач тактики (оперативного управления) способно вступать в конфликт с решением задач стратегического управления.
Стоит обратить внимание на то, что классификаторы принимаются на уровне
* Окончание. Начало см.: Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 9.
подзаконном, а если быть совсем точным, на уровне ведомственном. В результате их систематизирующее значение теряется или попросту игнорируется ввиду возможности в каждом конкретном случае забыть о наработках в области систематики, ссылаясь на авторитет закона и его преимущество перед подзаконными, а тем более ведомственными нормативными актами.
Сказанное ни в коем случае не означает, что классификаторы должны быть приняты в форме федерального закона. Однако в законодательных актах, регулирующих межведомственное взаимодействие и обмен информацией, в том числе определяющих порядок ведения публичных реестров, могут и должны применяться прямые отсылки к классификаторам или использоваться иные способы демонстрировать их применимость, чтобы исключить широкое поле для усмотрения административных органов.
При прочтении приведенного ранее материала стало ясно, что отсылки к классификаторам имеются в нормах законодательства, регулирующего ведение публичных реестров – Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 4.
На очереди стоит обеспечение «мостов» между Единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН) и классификатором, разработка которого, насколько мы можем судить, находится в стадии, далекой от завершения, – классификатора объектов капительного строительства 5. Этот классификатор, на наш взгляд, может послужить добротным основанием для официальной систематизации ранее построенных объектов недвижимости.
Предпринимаемые в экономической и правовой науке попытки сформулировать тезисы о видах объектов недвижимости, даже когда они сопровождаются указанием на понимание разницы между иерархическим (характерным для классификации) и фасетным (характерным для типологии) методами деления 6, зачастую оканчиваются результатами, пригодными более для обучения или просто постановки проблемы, нежели для практики официальной систематизации таких объектов, особенно в процессе градостроительной деятельности и тем более ведения публичного реестра.
Вопрос о систематизации объектов недвижимости и их наименований, обеспечения соответствия наименований функциональному назначению и функциональному использованию (которые далеко не всегда совпадают) стоит остро уже давно. Однако об обострении проблемы в последнее десятилетие очень ярко свидетельствует содержание налогового законодательства. Нормотворец, использовавший в 2013 году в налоговом законодательстве 7 термины «административно-деловой центр» и «торговый центр (комплекс)», был вынужден дать весьма развернутые характеристики таких объектов в статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Несмотря на приведенные в налоговом законодательстве определения, вопрос о том, что считать административно-деловыми и торговыми центрами, неизбежно остается связанным с содержанием реестра. Тому способствует скорость циркуляции и сложности проверки достоверности инфор- мации налоговыми органами ввиду ограниченности ресурса времени.
Вопрос о функциональном назначении и использовании недвижимой вещи имеет высокую актуальность для информационного общества. Одну и ту же вещь с первоначально декларированным функциональным назначением можно использовать совершенно в иных целях, и зачастую это законно. В конечном итоге в новом свете перед нами предстает проблема разграничения и связи субъекта и объекта гражданских прав.
Разграничение субъекта и объекта экономической деятельности в представлении граждан (особенно на постсоветском пространстве) сопряжено с известными сложностями. К примеру, «образовательное учреждение» – это в представлении обывателя и организация, и здание, где она расположена. «Строительным предприятием» могут запросто назвать и юридическое лицо, основным видом экономической деятельности которого является строительство 8, и территорию с производственными, административными комплексами и необходимой техникой.
Пункт 11 части 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) называет в числе дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, вносимых в состав кадастра недвижимости (структурной части ЕГРН), «наименование здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса при наличии такого наименования».
Наименование объекта недвижимости отнесено, подчеркнем, к числу дополнительных, а не основных сведений.
Практика ведения реестра показывает, что регистраторы понимают под «наименованием» не имя собственное, присвоенное владельцем, а указание на вид здания, выбранный в ходе градостроительства.
В итоге получается, что «наименование» правоприменительной практикой воспринимается как назначение объекта за отсутствием иной «графы» реестра, для этого предназначенной. В существующем виде «графа» реестра, названная в пункте 9 части 5 статьи 8 Закона № 218-ФЗ «назначение здания» (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение, садовый дом), если объектом недвижимости является здание, настолько информационно скудна, что не способна выполнить задачи, которые могут быть решены в информационном обществе.
Рассматривая конкретный спор с участием хозяйствующего субъекта и регистрирующего органа, арбитражный суд округа сделал совершенно справедливый, на наш взгляд, вывод, согласно которому «отказ регистрирующего органа в изменении наименования объекта недвижимости, ранее поставленного на учет, по мотиву отсутствия законодательно установленного порядка внесения таких изменений, без проведения надлежащей правовой экспертизы представленных обществами документов и проверки их доводов о наличии реестровой ошибки, не может быть признан обоснованным, противоречит принципу достоверности сведений ЕГРН и публичному интересу» 9.
Идея о важности обеспечения достоверности публичных реестров, базирующаяся на экономической основе – целесообразности содействия добросовестной и законной предпринимательской деятельности, в данном случае возобладала над идеей подчиненности государственных органов строгим регламентам и процедурам. Думается, что соответствующая практика должна быть расширена.
В период «повышенной готовности» к чрезвычайной ситуации оценка объектов недвижимости, служащих местами размещения офисов и торговых точек, размещенных в «административно-деловых центрах» и «торговых центрах (комплексах)», базировалось, по нашим сведениям, прежде всего на сведениях открытого характера, в том числе черпаемых из широко известных потребителям информационносправочных систем с картами городов, а не на основании данных публичных реестров. Практика такой оценки органами власти в целом заслуживает поддержки, несмотря на допущенные и неизбежные «эксцессы исполнителей».
Чрезвычайный характер обстоятельств потребовал отступления от формальностей и ориентации на фактическое положение дел. Однако это не означает, что на длинной дистанции стоит мириться с несоответствием наименований объектов их функциональному назначению и использованию.
Еще более правильным, стратегически обоснованным решением было бы введение в Закон № 218-ФЗ нормы, в силу которой в ЕГРН должно указываться назначение объекта права, если он является зданием или сооружением, в соответствии с общероссийским классификатором объектов капитального строительства. Кроме того, в этот закон должны быть введены общие правила заявительного и разрешительного изменения назначения (использования) здания, если такое изменение не требует перепланировки или реконструкции.
Разработка и введение в действие адекватных правил присвоения и корректировки наименований объектам строительства и недвижимости, сведений об их назначении (использовании), предложение качественного классификатора таких объектов – крайне важная задача на стыке техники (проектирования и строительства), экономики (менеджмента в строительстве) и юриспруденции (цивилистики и административного права). Эта задача может быть решена в приемлемый, хотя и вряд ли в короткий срок посредством мобилизации высокопрофессиональных специалистов в трех названных сферах науки и практики. Ее решение будет сказываться позитивно на управлении процессами в состоянии острых кризисов, в том числе возможных чрезвычайных ситуаций.
Формирование местными властями квазиреестров, содержащих данные о лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в период эпидемии
Естественной реакцией местных властей, не имеющих реального контроля над распространением заболеваемости COVID-19, стало принятие собственных, никакими нормативными актами не полагавшихся, но действенных на короткой дистанции мер. К числу таковых можно отнести:
-
1) ведение особых реестров, списков или перечней работающих предпринимателей;
-
2) проведение муниципальными служащими «рейдов» с составлением актов, фиксирующих факты работы предпринимателей. При этом, по нашим наблюдениям, сотрудники правоохранительных органов, привлекаемых к таким акциям в целях придания им вида законных, зачастую стремились максимально дистанцироваться от непосредственного участия в соответствующих «проверках» ввиду несоответствия таковых формальным правилам процедурного законодательства 10;
-
3) тенденциозное разъяснение, в том числе с использованием масс-медиа, принимаемых региональными властями нормативных правовых актов, ограничивающее работу хозяйствующих субъектов вопреки буквальному смыслу официальных документов.
Система таких мер составляла часть правовой политики, направленной на ограничение свободы предпринимательской деятельности в период принятия наиболее активных мер, направленных на борьбу с эпидемией.
Документы, рожденные муниципальными властями, стремящимися придать своей работе видимость соответствия закону, трудно назвать нормативными правовыми актами. Однако мы вынуждены считать их оказывающими регулятивное воздействие, поскольку тысячи хозяйствующих субъектов, нередко бросая гораздо более важные дела, занимались составлением и передачей уведомлений, заявок или заявлений о включении в упомянутые квазиреестры.
Так, в апреле 2020 года хозяйствующим субъектам в целях включения в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории города Омска, деятельность которых временно не приостановлена, было «предложено» направлять в городскую администрацию уведомления, составленные по утвержденной форме 11. Для целей облегчения поиска работающих предприятий органом местного самоуправления была организована работа ресурса, содержащего поисковую систему для обнаружения хозяйствующих субъектов в перечне.
Неудивительно, что довольно скоро на соответствующем ресурсе появилась интереснейшая оговорка о снятии администрацией с себя какой-либо ответственности за его ведение, или то, что принято называть «дисклеймером» (англ. disclaimer): «Уведомление не является разрешением на работу и предназначено для информирования Администрации города Омска и контролирующих органов о начале или продолжении деятельности предприятий. Решение принимается руководителем организации после самостоятельной оценки…» 12.
Этот «дисклеймер» – заявление о снятии местными властями с себя ответственности за последствия ведения квазиреестра – оголяет технологию многоэтапного (многозвенного) транзита ответственности. Суть технологии транзита ответственности по цепи (федеральная власть – региональная власть – местная власть), приводящая в итоге к отсутствию реальной имущественной ответственности за принятые решения, довольно проста. Она имеет в своей основе политическую и юридическую составляющие.
Политическая составляющая заключается в прямом делегировании или делегировании по умолчанию полномочий ограничивать права субъектов предпринимательской деятельности, уменьшающих популярность центральной власти, в пользу более низкой ступени власти. О таком делегировании было сказано: «…Поручения, навлекающие неприязнь,.. следует давать другим, а благодеяния вершить самому» 13.
Юридическая составляющая заключается в размывании границ ответственности за убытки, причиненные в результате реализации правой политики ограничения свободы предпринимательской деятельности. Каждое звено в цепи делегирования полномочий и ответственности будет совершенно справедливо утверждать, что не только или не столько его действия и решения повлекли ограничения прав субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В случае с местными властями неоднозначный для правовой оценки характер действий, направленных на ограничение предпринимательской деятельности, в период эпидемии COVID-19 проявляется сразу по двум позициям.
Во-первых, «предложение» субъектам предпринимательства подать заявление (заявку) о включении в перечень работающих предприятий будет, скорее всего, интерпретировано судом именно как рекомендация к акту информационного взаимодействия.
Во-вторых, в большинстве случаев для ведения соответствующих перечней не было никакого повода в виде нормативного акта властей субъектов Российской Федерации. Цепочка действий и решений, которая при других обстоятельствах могла бы повлечь привлечение публично-правового образования к имущественной ответственности, нарушается.
Спектр решений местных и региональных властей, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности в период эпидемии COVID-19, довольно широк.
Появление Реестра промышленных предприятий Свердловской области, задействованных в период введения режима повышенной готовности на территории Свердловской области, по-видимому, мог бы свидетельствовать о готовности региональных властей принять ответственность на себя, если бы не то обстоятельство, что опубликованный 14 реестр не содержит в грифе утверждения ни даты, ни иных реквизитов утверждающего документа. Сама возможность утверждения такого реестра не следовала из регионального правового акта 15, на основании которого был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Республике Бурятия региональный акт о дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации 16 по истечении месячного срока с момента начала его действия оказался дополненным 17 следующими правилами: «Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, продолжают осуществление деятельности после подачи заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», не дожидаясь одобрения. … Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, продолжают осуществление деятельности только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия». Портал заработал 18, но этот факт не делал понятными риски для предпринимателей, считающих, что в соответствии с материально-правовыми нормами чрезвычайного характера они могут продолжать работать, но процедурные требования в виде одобрения не выполнены.
Рассуждения задним числом об эффективности принятых мер не должны подменять собой анализ использованных властями правовых моделей и политик их применения на предмет соответствия зако- ну и сохранения уважения к нему со стороны участников гражданско-правового оборота.
Подготовку выводов об адекватности (достаточности или недостаточности) принятых российским государством мер для смягчения последствий введения ограничений для бизнеса считаем прерогативой экономистов и эпидемиологов. Зона ответственности правоведов и особенно цивилистов – определение того, насколько в условиях, близких или тождественных чрезвычайным, использование правового инструментария позволило сохранить и может позволить в будущем упрочить представление о ценности права, уважение к нему со стороны общества и его пассионарной части – предпринимателей.
Практика ведения квазиреестров (перечней, списков) работающих предпринимателей, задачей которых было ограничить свободу экономической деятельности в целях борьбы с эпидемией, на короткой дистанции дала определенный позитивный результат как один из факторов, влияющих на темп распространения заболевания. На длинной дистанции применение этого приема уменьшило в глазах предпринимательского сообщества ценность права, нанесло ущерб авторитету власти, превосходящий извлеченную «выгоду» ввиду понимания предпринимателями допущенного обхода норм закона. Использование недобросовестных практик в отсутствие прямых нарушений закона не может поощряться федеральной властью посредством умолчания о возникшей проблеме и должно получить негативную оценку со стороны лиц, занимающих государственные должности.
Добросовестность как основное начало в принятии решений, направленных на ограничение экономической деятельности
Рассмотрение практик ограничения свободы предпринимательской деятельности в период эпидемии COVID-19 дает основа- ния для выводов на будущее. Соответствующие заключения могут иметь как стратегическое, так и тактическое значение, определять направления долговременных и оперативных мер, предпринимаемых властными структурами.
Сложность современного общественного устройства предопределяет необходимость совершенствования и разработки новых классификаторов. Еще бо ́ льшую важность имеет определение точных границ их применения, а также правовых последствий неправильного, необоснованного отнесения того или иного явления к классификационной группе, когда оно произошло в результате умышленных и неосторожных действий хозяйствующего субъекта либо органа, отвечающего за правоприменение.
Фиксация в законе взвешенных правил определения видов экономической деятельности, которыми занимается хозяйствующий субъект, стимулирование их адекватного декларирования, установление критериев размежевания основного и дополнительных видов экономической деятельности, рассмотрение допустимости введения новеллы, в силу которой можно было бы считать основными несколько видов экономической деятельности, – предмет для полемики правоведов и экономистов.
Передача органам местного самоуправления регулирующего воздействия на поведение участников бизнес-сообщества требует серьезного внимания со стороны исследователей и может осуществляться государством очень осторожно. По результатам анализа событий текущего года соответствующие практики не кажутся нам заслуживающими одобрения.
Результатом принятых государством правовых мер могут стать сложности статистического наблюдения за различными отраслями хозяйствования. Предпринимательское сообщество фактически стимулируют к заявлению необоснованно длинного списка видов осуществляемой деятельности, к декларированию в качестве основ- ного вида деятельности – активности, могущей считаться ценной для общества в любое время, в том числе в период социальных либо природных катаклизмов. Ухудшение качества инструментария статистического наблюдения неизбежно повлечет ошибки в государственной поддержке бизнеса, распределении финансовых потоков, что может дать только негативный макроэкономический эффект, трудно поддающийся выявлению и анализу.
Можно утверждать со всей ответственностью, что недобросовестное поведение, в том числе обход закона публичной властью любого уровня, какими бы чрезвычайными причинами оно не было обусловлено, и каких бы сфер жизни ни касалось, приносит на существенной дистанции только негативный результат.
Список литературы Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
- Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Головкин Р. Б. Интерполяция смыслов юридических норм в процессе правового регулирования // Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития : Международный сборник научных трудов. Выпуск 4. М. : Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимирский филиал / отв. ред. Д. А. Зыков. Владимир, 2014. С. 12-28.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Ермолова О. Н. Принципы свободы и ограничения предпринимательской деятельности: реализация в нормативном регулировании и правоприменении // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 142-146.
- Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней : Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости : распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р. URL : http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202003300002 (дата обращения: 13.07.2020).
- О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150.
- ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Козырь Н. С., Коваленко В. С. Метрика отраслевой классификации в Российской Федерации и за рубежом // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 10. С. 1914-1927.
- Малютина О. А. Правовые ограничения предпринимательской деятельности в России // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 550-553.
- Берновский Ю, Григорьев А. Сохранить общероссийский классификатор продукции для стандартизации // Стандарты и качество. 2015. № 11 (941). С. 90-92.
- О стандартизации в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953.
- Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации : постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 733 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 24, ст. 3093.
- Першин В. Б., Перши на И. В. Классификация и типология: логико-методологический анализ // Вестник Нижегородской правовой академии. 2017. № 14 (14). С. 5-8.
- Саидов А. Х. Типология и классификация правовых систем современности // Правоведение.1985. № 2. С. 52-56.
- Сукиасян Э. Р. Классификация или типология // Научные и технические библиотеки. 1996. № 10. С. 3-10.
- Гачава М. Л., Мальцев С. А., Дрозд Е. Д. Классификация и типология личности преступника в криминологии // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 (публикация авторов на с. 86-88).
- Безвербная М. Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве. 2016. № 4 (12). С. 13-19.