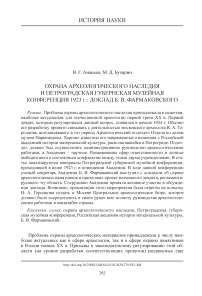Охрана археологического наследия и петроградская губернская музейная конференция 1923 г.: доклад Б. В. Фармаковского
Автор: Ананьев В.Г., Бухарин М.Д.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История науки
Статья в выпуске: 279, 2025 года.
Бесплатный доступ
Проблема охраны археологического наследия принадлежала к сюжетам, наиболее актуальным для отечественной археологии первой трети ХХ в. Первый декрет, которым регулировался данный вопрос, появился в начале 1924 г. Обычно его разработку принято связывать с деятельностью московского археолога В. А. Городцова, возглавлявшего в тот период Археологический подотдел Отдела по делам музеев Наркомпроса. Хорошо известны его напряженные отношения с Российской академией истории материальной культуры, располагавшейся в Петрограде. Подотдел должен был осуществлять административное руководство археологическими работами, а Академия – научное. Размежевание сфер ответственности и личные амбиции вели к постоянным конфликтам между этими двумя учреждениями. В статье анализируются материалы Петроградской губернской музейной конференции, проходившей в июне 1923 г. в помещении Академии. В ходе данной конференции ученый секретарь Академии Б. В. Фармаковский выступил с докладом об охране археологических памятников и предложил проект возможного декрета, регламентирующего эту область. Сотрудники Академии приняли активное участие в обсуждении доклада. Возможно, организация этого мероприятия была ответом на попытку В. А. Городцова создать в Москве Центральное археологическое бюро, которое должно было сосредоточить в своих руках всю полноту руководства археологическими работами в масштабах страны.
Охрана археологического наследия, Петроградская губернская музейная конференция, Российская академия истории материальной культуры, Б. В. Фармаковский
Короткий адрес: https://sciup.org/143184823
IDR: 143184823 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.392-404
Текст научной статьи Охрана археологического наследия и петроградская губернская музейная конференция 1923 г.: доклад Б. В. Фармаковского
Проблема охраны археологических материалов принадлежала к числу наиболее актуальных как в сфере археологии, так и в сфере охраны памятников в России начала ХХ в. Призывы к законодательному регулированию этой области (на уровне разработки соответствующих проектов) раздавались еще
до революционных пертурбаций 1917 г., но особенно активными они стали после установления в стране Советской власти. Представители позднеимперской науки пытались использовать изменившиеся условия в своих интересах, продвигая реализацию на практике тех идей, с которыми выступали еще в дореволюционные годы. Сложный процесс подготовки соответствующей нормативной базы и многофакторность обстоятельств ее реализации были продемонстрированы в статьях И. А. Сорокиной с опорой на широкий круг архивных материалов, показавшей влияние на эти процессы как общеполитических, так и личностных факторов ( Сорокина , 2016; 2018; 2019 и др.).
Развитие дореволюционных тенденций столкнулось как с объективным изменением условий бытования археологических памятников (отмена частной собственности на землю), так и с субъективным противостоянием двух новых центров руководства научной и административной составляющей археологических раскопок – Российской академии истории материальной культуры (далее – РАИМК) в Петрограде и Археологического подотдела Отдела по делам музеев Наркомпроса в Москве. Возглавлявший последний В. А. Городцов стремился ликвидировать восходящую еще к дореволюционному времени определенную институциональную гегемонию петроградских археологов, значительная часть которых была связана с Археологической комиссией, руководившей соответствующей сферой деятельности в позднеимперский период. Дело осложнялось расширением социальной базы потенциальных «раскопщиков» за счет включения в нее провинциальной интеллигенции, чаще всего не имевшей внятных представлений о методике проведения раскопок. Все эти факторы делали особо актуальным (и особо сложным) процесс принятия адекватного законодательства об археологических материалах. Соответствующий декрет ВЦИК и СНК «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы», регламентировавший в том числе и этот вопрос, был принят 7 января 1924 г., а через полгода, 7 июля 1924 г., Президиум ВЦИК утвердил и сопровождавшую его инструкцию Наркомпроса ( Сорокина , 2019. С. 339).
Однако, как представляется, у этого процесса был и еще один элемент, прежде практически не привлекавший внимания исследователей. Он был связан с обсуждением соответствующего вопроса летом 1923 г. на Петроградской губернской музейной конференции (далее – Конференция). И. А. Сорокина, опираясь на материалы Государственного архива Российской Федерации, констатировала: «В июне 1923 г. на Петроградской музейной конференции член РАИМК Б. В. Фармаковский предложил от имени Академии обстоятельный проект Декрета о “сохранении материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли” (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 95. Л. 20–21). Но, как выяснилось, то же самое сделано в АПО <Археологическом подотделе Отдела по делам музеев. – В. А., М. Б .>, и Троцкая уже внесла во ВЦИК некую Инструкцию о раскопках без предварительного обсуждения в научной среде» ( Сорокина , 2016. С. 251). Опубликованные источники и архивные материалы из собрания Центрального государственного архива Санкт-Петербурга позволяют уточнить обстоятельства появления и характер предложения Б. В. Фармаковского и тем самым заполнить соответствующую лакуну в истории этого важнейшего для развития отечественной археологии ХХ в. вопроса.
Хотя в историографии и встречаются отдельные упоминания о Конференции (см., напр.: Закс , 1968; Третьяков , 2006; Анисимова , 2023 и др.), ни обстоятельства ее подготовки, ни ход, ни программа работы никогда не получали сколько-нибудь целостного освещения (исключением является, пожалуй, лишь обсуждавшийся на конференции вопрос о музеях художественной культуры, см.: Материалы Петроградской губернской музейной конференции … , 1998). Общее представление о ней можно составить на основании подробного печатного отчета, составленного секретарем Конференции, заведующим секретариатом РАН Б. Н. Моласом. Отчет был опубликован в первом номере созданного по итогам конференции под эгидой Петроградского отделения (далее – ПО) Главнауки Наркомпроса журнала «Музей». Ряд докладов, представленных на Конференции, был опубликован в первом и втором (он же последний) номерах того же самого издания. В архивном фонде ПО Главнауки сохранилось несколько дел, связанных как с самой Конференцией, так и с подготовленным по ее итогам журналом. Они также не привлекали сколько-нибудь пристального внимания исследователей.
В отчете Б. Н. Молас отмечал, что Конференция стала логичным продолжением Первой всероссийской конференции по делам музеев 1919 г. и конференции центральных музеев 1922 г. Она была созвана для обсуждения локальной петроградской проблематики в преддверии второй всероссийской конференции, о важности проведения которой много говорили музейные работники. Конференцию готовили под эгидой ПО Главнауки на протяжении чуть более месяца. Бюро по ее созыву возглавил непременный секретарь РАН академик С. Ф. Ольденбург. Он же возглавил и президиум Конференции. Заседания Конференции проходили 7–10 июня в Мраморном зале Мраморного дворца, где тогда располагалась РАИМК – учреждение, призванное ведать всей научной составляющей как памятникоохранительной деятельности, так и археологических работ в масштабах страны.
Вновь, как и при открытии музейной конференции 1919 г., первым прозвучал доклад представителя новой власти. На этот раз ‒ не наркома просвещения, а заведующего отделом по делам музеев и охране памятников ПО Главнауки Г. С. Ятманова, обозначившего государственную политику в этой области, и подведшего итог сделанному и наметившего перспективы ближайшей работы. В последующих докладах были освещены отдельные вопросы актуальной музейной деятельности, положение и потребности отдельных категорий (профильных групп) музеев, музейных работников, и т. д. ( Молас , 1923). Как констатировал относительно работы Конференции Б. Н. Молас, «красной нитью через все ее суждения прошла мысль о необходимости научной организации музеев, которая должна коренным образом изменить их работу» (Там же. С. 46). По большинству докладов Конференцией принимались краткие резолюции, также опубликованные в журнале «Музей» (Резолюции…, 1923).
Уже на первом заседании Совещания по подготовке Конференции в апреле 1923 г. С. Ф. Ольденбург отметил и вполне практическое значение будущих работ, сообщив собравшимся, что возглавляющей Отдел по делам музеев Нар-компроса Н. И. Троцкой «придается большое значение» заслушиванию на конференции конкретных докладов о насущных нуждах музеев, т. к. «большинство из затронутых в них вопросов уже поднято Отделом музеев Главнауки и ему важно получить по ним детальное заключение Петроградской музейной конференции до внесения их на рассмотрение законодательных учреждений» (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 662. Л. 13 об.).
Вполне в духе времени интегральной частью музейного дела участники конференции считали работу по охране памятников. Свое место среди последних занимали археологические памятники. Уже на заседании секции естественноисторических музеев того же Совещания по созыву Конференции 29 апреля 1923 г. было постановлено к началу конференции разработать «проекты особо важных для жизни музеев общих декретов», среди которых намечен был и декрет об охране мест раскопок (Там же. Л. 14а). На заседании той же секции 4 мая палеонтолог член-корреспондент РАН А. А. Борисяк озвучил и проект «декрета об охране раскопок», который с небольшими дополнениями собравшихся был одобрен (Там же. Л. 18 об.). Больше к этой теме в ходе подготовки Конференции не возвращались.
В печатной программе Конференции на первый день секционных заседаний среди докладов «по вопросам, связанным с музейными нуждами», был поставлен и доклад «об охране раскопок», хотя и без указания автора (Там же. Л. 2 об.). Но явно имелся в виду доклад А. А. Борисяка, который, в соответствии с областью научных интересов автора, был посвящен именно палеонтологическому материалу.
В перечень лиц, намеченных 22 мая к приглашению для участия в работе Конференции, были включены 3 человека от РАИМК (Там же. Л. 34), а представители Археологического подотдела (секции) Наркомпроса среди намеченных к приглашению из Москвы отсутствовали (Там же). Впрочем, это было вполне естественно, т. к. разработка вопроса охраны археологических памятников на этом этапе подготовки Конференции еще не была выделена в качестве отдельной темы. В этом отношении следует отметить, что ни в итоговом печатном варианте программы, ни в ее проекте, разработанном на заседании того же 22 мая, специальный доклад об охране археологических памятников (то, что впоследствии будет названо «охранение материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли») не значился (Там же. Л. 34–35).
Вместе с тем, сама эта проблематика была озвучена уже в первый день Конференции. В соответствии с программой на утреннем заседании 6 июня 1923 г. А. А. Борисяк, действительно, сделал доклад, который, однако, в стенограмме Конференции был обозначен как «доклад об охране палеонтологических находок» (Там же. Д. 663. Л. 10; текст доклада: Л. 97–98), что оказывалось сужением обозначенной в программе темы («об охране раскопок»). На это обратили внимание внесшие существенный вклад в развитие отечественной полевой археологии Б. В. Фармаковский и А. А. Миллер, отметившие, что, «судя по первоначальному заглавию доклада, можно было думать, что речь будет идти и об охране археологических раскопок. Между тем, доклад этого вопроса совершенно не касается, тогда как охрана археологических раскопок поставлена у нас крайне неудовлетворительно и требует срочных мероприятий» (Там же. Л. 10).
Это заявление вызвало возражение московского искусствоведа, сотрудника Отдела по делам музеев Наркомпроса Н. Г. Машковцева, который, «возражая против приведенного заявления, указал, что вопрос, возбуждаемый в докладе, пока еще не нашел себе законодательного разрешения, тогда как археологические раскопки пользуются уже законодательной охраной, и можно говорить лишь о неудовлетворительном ее осуществлении за отсутствием у органов охраны надлежащих средств» (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 662. Л. 10). Напомним, что Б. В. Фармаковский с 1921 г. был ученым секретарем РАИМК, а А. А. Миллер заведовал ее Этнологическим отделением (Академическая археология…, 2013. С. 391, 368)
Неудивительно, что следующей же репликой А. А. Миллер постарался отмести какие бы то ни было претензии москвичей на регулирование этой области, заявив, что «существующий закон не может считаться удовлетворительным, т. к. он не отвечает ни реальной обстановке, ни действительным силам органов, осуществляющих охрану, почему вопрос об охране археологических раскопок должен быть рассмотрен в полном объеме» (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 663. Л. 10).
Председательствовавший на Конференции С. Ф. Ольденбург попытался объяснить отсутствие соответствующего доклада в программе тем, что данный «вопрос только потому не включен в программу конференции, что представители гуманитарных музеев никаких докладов и предположений по этому поводу в Организационное бюро не внесли, и предложил Б. В. Фармаковскому и А. А. Миллеру, совместно с Н. Г. Машковцевым, разработать настоящий вопрос и внести его на обсуждение Конференции» (Там же).
Таким «рабочим» порядком включения в программу Конференции соответствующего доклада можно объяснить и отсутствие его в заранее составленной программе, и отсутствие упоминаний о нем в печатном отчете Б. Н. Моласа, также, вероятно, следовавшем какой-то заранее заданной структуре. О реализации предложенной С. Ф. Ольденбургом работы «триумвирата» ничего не известно. С учетом напряженных отношений между раимковцами и нар-компросовцами-археологами это едва ли было возможно. Более того, можно предположить, что само возбуждение вопроса на Конференции со стороны ученого секретаря РАИМК находилось в прямой связи с деятельностью московских коллег.
Как отмечает И. А. Сорокина, «…в начале 1923 г. Городцов разработал <…> программные документы: проект создания при Отделе музеев Центрального археологического бюро как основного археологического учреждения РСФСР, а также подчиненных ему местных научных обществ; “Декларацию” о значении археологических памятников и проект закона об их охране» ( Сорокина , 2016. С. 249). Бюро просуществовало как раз с февраля по июнь 1923 г. и должно было стать главным центром сосредоточения как административной, так и научной составляющих археологической деятельности в масштабах страны ( Сорокина , 2018. С. 433). По словам И. А. Сорокиной, «можно предположить, что в целом весь проект ЦАБ <Центрального археологического бюро. – В. А., М. Б .> создавался именно под задачу грядущего “объединения археологических сил” и как средство его осуществления» (Там же. С. 434). В РАИМК о его создании узнали уже в феврале 1923 г., посчитали это нарушением прерогатив петроградского учреждения и выразили протест. Именно в июне 1923 г. бюро было реорганизовано обратно в подотдел и так не воплотило в полном масштабе плана
В. А. Городцова ( Сорокина , 2018. С. 440). Представляется, что именно в таком контексте и следует понимать неотложность обсуждения вопроса об охране археологических памятников, на которую в первый же день работы Конференции обратили внимание ответственные сотрудники РАИМК. Это была попытка «переиграть» московских коллег-соперников (в первую очередь, В. А. Городцо-ва), готовивших переворот в деле организации археологических исследований в масштабе всей страны.
Так и случилось, что в нарушение заранее составленной программы заседание Конференции 9 июня 1923 г. открылось докладом, автором которого был обозначен ученый секретарь РАИМК Б. В. Фармаковский и который носил название «Охранение материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли» (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 663. Л. 27). Текст доклада в стенограмме отсутствует, он сохранился как приложение к ней в рукописном (автограф) (Там же. Д. 664. Л. 112–117) и машинописном вариантах (Там же. Д. 663. Л. 145–146; Д. 664. Л. 29–29 об., 118–119; Д. 665. Л. 131–132). В стенограмме остались зафиксированы резолютивная часть доклада и ее обсуждение (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 663. Л. 27–29). Последние были опубликованы вместе с прочими принятыми на Конференции резолюциями в первом номере журнала «Музей» (Резолюции…, 1923. С. 53–54). Доклад Б. В. Фармаковского остался неопубликованным.
Обращая внимание на существующие в данной области трудности (отсутствие методичных регулярных пополнений музеев археологическим материалом, массовые хищения памятников, депаспортизация и распыление случайных находок, проведение раскопок без должного уровня подготовки (вероятно, отсылка к краеведческим и педагогическим трудам провинциальных учителей), неэффективность законодательной базы и т. п.), Б. В. Фармаковский в докладе главной необходимостью признавал «издание единого ясного закона» и оговаривал: «Материалы для декрета есть в Академии, обработка декрета – Отдел по делам музеев». Собственно, это и составило резолютивную часть доклада, включавшую три пункта: 1) издать декрет об охране археологических памятников, 2) разработку его поручить РАИМК, 3) о скорейшем проведении в жизнь просить Отдел по делам музеев Наркомпроса.
В обсуждении резолютивной части доклада приняли участие коллеги Б. В. Фармаковского по РАИМК: В. В. Бартольд, А. А. Спицын, И. А. Орбе-ли, А. А. Миллер. Они конкретизировали общие положения предложенной схемы. Г. С. Ятманов (как представитель властных структур) сообщил, что, по его сведениям, заведующая Отделом по делам музеев Наркомпроса Н. И. Троцкая уже внесла во ВЦИК проект «инструкции по вопросу о раскопках». По предложению С. Ф. Ольденбурга Конференцией решено было «просить Отдел Музеев Главнауки об ускорении проведения соответствующего декрета в согласии с Академией Истории Материальной Культуры, как с учреждением, уже собравшим необходимые для разработки положений материалы». Тема эта не была забыта и после окончания Конференции.
24 июня 1923 г. на итоговом совещании о проведении в жизнь решений Конференции среди прочего собравшимися (С. Ф. Ольденбургом, А. Н. Ферсманом, Г. С. Ятмановым, С. Н. Тройницким, Б. Н. Моласом) было решено просить ПО обратиться в Главнауку и относительно скорейшего издания декрета об охране археологических раскопок (ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 662. Л. 53). Как отмечалось выше, в начале 1924 г. соответствующая лакуна в законодательстве была заполнена, а РАИМК сохранила свои позиции главного учреждения страны в области научного руководства археологической деятельностью. Представляется, что приведенный выше сюжет, связанный с обсуждением вопроса на Конференции 1923 г., должен быть включен в общий нарратив истории развития отечественной археологии ХХ в.
Автограф доклада написан характерным, трудночитаемым почерком Б. В. Фар-маковского. Сличение его текста с машинописным вариантом демонстрирует явные затруднения машинистки в расшифровке и, как кажется, некоторые ее произвольные чтения. Сам автограф представляет собой скорее развернутые тезисы, явно составленные и записанные в определенной спешке. Вероятно, это определило и дальнейшую судьбу доклада. Он так и не был доработан автором до того вида, в котором мог бы быть опубликован в формате статьи. Ниже текст публикуется по машинописи, сверенной с автографом. Авторские подчеркивания выделены курсивом.
№ 1
Доклад Б. В. Фармаковского
« Охранение материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли »
Должно быть непрестанное пополнение музеев особым методическим исследованием. Материалы, добытые исследованиями бывшей Археологической комиссии (Эрмитаж, Исторический музей в Москве, Киевский музей и другие): см. Отчеты Археологической комиссии. За последние шесть лет поступления в музеи этого рода прекратились. Почва не истощена (ср. Солоха, 1913 г.1). Мы терпим бедствие от неустройства в области охранения ископаемых культурных ценностей. 1) Идет хищение (хищнические раскопки; слухи о золоте с Северного Кавказа). 2) Масса случайных находок, которые не представляются, не регистрируются (монетные клады, иногда редчайшие; серебряная чашка из Новороссийска, изданная в 1921 г.2; золотые серьги3 и браслет из Керчи4; две мраморные головы, надпись из Ольвии5; лиможские эмали из Новгорода6; редкое удалось купить. Сколько исчезло?! Необходимость регистрации, установление ее порядка. 3) Дезорганизация в деле ведения археологических раскопок. Неумелые раскопки при самых лучших намерениях вредны. Необходимость требования техники недостаточно сознается. Декрет об Академии от 18 апреля 1919 г. Устав Академии (п. 5)7. Практикуется и другой порядок. Есть распоряжения местных властей. Какая несогласованность. Законы есть, а действительного охранения ценностей нет. Необходимость пересмотра отдельных законов и издание единого ясного закона. Необходимо точно установить порядок выдачи разрешений, [ведения] отчетности. Должен быть общий план исследований, знание задач в отдельных случаях (инструкции). 4) Кроме городских музеев есть музеи-города (Ольвия, Херсонес, Керчь и др.). Необходимость охраны развалин, курганов и т. п. Надо изыскать средства против стихийных разрушений (Керченские расписные склепы8, Таманский саркофаг9, Ольвия и др.).
Материалы для декрета есть в Академии, обработка декрета – Отдел по делам музеев. 1. Ввиду необходимости принятия неотложных мер для действительного охранения извлекаемых из земли материальных культурных ценностей настоятельно необходимо издание особого декрета по охранению этих ценностей. Декрет должен: а) категорически запретить хищнические раскопки, установить уголовную за них ответственность; б) определить регистрацию и направление всех кем-либо случайно обнаруживаемых в земле предметов древности; в) точно установить порядок выдачи разрешений на право производства археологических раскопок и разведок, составления для них инструкций, представления отчетов о произведенных исследованиях, а также могущих быть найденными при исследованиях предметах древности; г) обеспечить от всякого рода разрушений обнаруженных раскопками монументальных памятников и мест, где могут быть найдены памятники древности.
-
2. Разработку в срочном порядке основных положений указанного декрета целесообразно возложить на Российскую академию истории материальной культуры как учреждение, которое, согласно уставу, ведает научной стороной
-
3. Озаботиться скорейшим проведением в жизнь декрета, положения которого имеют быть разработаны Академией истории материальной культуры, и обеспечением средств на принятие насущнейших мер к охранению открытых раскопками монументальных памятников особо важного значения и мест нахождения памятников древности необходимо просить Отдел музеев и охраны памятников старины Главнауки Наркомпроса.
всех археологических раскопок и разведок и собрало уже необходимые для разработки положений материалы.
ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 665. Л. 131–132, машинопись
№ 2
Протокол № 4
-
9 июня 1923 г.
Б. В. Фармаковский сделал доклад на тему «Охранение материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли».
(Приложение № 20).
На обсуждение конференции поставлена резюмирующая часть доклада следующего содержания:
<Приведены пп. 1–3 из документа № 1 – В. А., М. Б.>
В. В. Бартольд указал на желательность распространения будущего декрета на все территории, входящие в состав СССР.
А. А. Спицын указал на желательность включения в резолюцию следующих положений: 1) Находящиеся в недрах земли и на ее поверхности памятники древности, как то: курганы, могильники, городища и пр., а также клады старых вещей, ценные остатки первобытных животных и растений и метеориты – составляют государственную собственность. 2) Разрешение на производство раскопок памятников древности предоставляется исключительно Академии Истории Материальной Культуры, а остатков исторических – Академии Наук. 3) Найденные клады старых вещей, отдельные предметы старины, остатки первобытных животных, растений и метеоритные [для] вознаграждения находчиков – направляются в поименованные учреждения по принадлежности.
И. А. Орбели указал на необходимость отметить в резолюции, что в будущем декрете должен быть сохранен в силе § 4 декрета об учреждении Академии Истории Материальной Культуры, предоставляющий ей право дачи разрешений на производство раскопок10.
При голосовании пункт 1 резолюции принимается с теми дополнениями и расширениями, какие предложены В. В. Бартольдом, А. А. Спицыным и И. А. Орбели.
По поводу 2 и 3 пунктов Г. С. Ятманов осведомил конференцию, что получено сообщение о внесении заведывающим Отделом Музеев Н. И. Троцкой в ВЦИК инструкции по вопросу о раскопках. По мнению Г. С. Ятманова, необходимо согласование деятельности Отдела музеев Главнауки по данному вопросу с Академией Истории Материальной Культуры.
Ввиду сообщения Г. С. Ятманова, по предложению Председателя Конференции11, конференцией постановлено: просить Отдел Музеев Главнауки об ускорении проведения соответствующего декрета в согласии с Академией Истории Материальной Культуры, как с учреждением, уже собравшим необходимые для разработки положений материалы.
-
А. А. Миллером внесено предложение выразить в резолюции пожелание о том, чтобы будущий декрет был связан с общим декретом, обнимающим охрану всех памятников старины, как часть с целым.
Предложение это принято.
И. А. Орбели внесено предложение включить в резолюцию особым пунктом, что до издания нового декрета, в случае возбуждения ходатайств о выдаче разрешений на раскопки, ходатайства эти обязательно должны быть передаваемы в Академию Истории Материальной Культуры на рассмотрение.
Предложение это принято.
-
В. В. Бартольдом внесено предложение указать на необходимость выяснения, где находятся добытые за последние годы археологические материалы.
Предложение принято.
Резолюции Петроградской Губернской Музейной Конференции // Музей. 1923. № 1. С. 53–54 = ЦГА СПб. Ф. 2555.
Оп. 1. Д. 665. Л. 27–29, машинопись