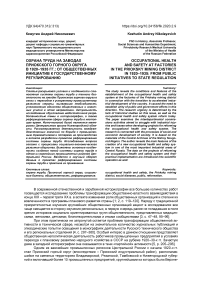Охрана труда на заводах Приокского горного округа в 1920-1935 гг.: от общественных инициатив к государственному регулированию
Автор: Кежутин Андрей Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает условия и особенности становления системы охраны труда и техники безопасности на заводах Приокского горного округа в связи с переходом к ускоренному промышленному развитию страны, вызвавшим необходимость установления единства общественных и властных усилий в этом направлении. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью темы в историографии, а также реформированием сферы охраны труда в настоящее время. Источниковой базой являются материалы Центрального архива Нижегородской области. Рассматривается деятельность междуведомственных комиссий по борьбе с промышленным травматизмом и потерями на производстве в аспекте разработки проектов реформирования системы охраны труда. Исследование вопроса связано с процессами социально-экономического развития общества. Выявлены основные особенности создания новой системы охраны труда в одном из важнейших промышленных районов Центральной России. Вводятся в научный оборот данные о проектах реформирования системы охраны труда и практике их применения.
Охрана труда, приокский горный округ, социальные болезни, общественность, реформирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149134111
IDR: 149134111 | УДК: 94(470.312/.313) | DOI: 10.24158/fik.2020.2.9
Текст научной статьи Охрана труда на заводах Приокского горного округа в 1920-1935 гг.: от общественных инициатив к государственному регулированию
В современной отечественной и зарубежной историографии все большее количество работ посвящается исследованию проблемы трансформации общественно-властного взаимодействия в конце XIX – первой трети XX в. в аспекте изменения роли общественных организаций и степени их вовлеченности в программы планового развития страны [1; 2, с. 119–120]. Наряду с традиционной приоритетностью изучения крупнейших общественных организаций акцент в исследованиях все чаще смещается в сторону изучения региональных, в первую очередь ранее не попадавших в поле зрения историков социально ориентированных групп общественности, представленных медицинскими, женскими, детскими, благотворительными и иными сообществами [3, с. 47–48, 95–96].
При этом практически не затронутой остается проблема трансформации общественной активности в технической сфере, несмотря на значительное количество журнальных публикаций и эпизодические попытки освещения в монографиях деятельности Русского технического общества и его региональных отделений [4, с. 297–360]. Особый интерес в данном отношении представляет общественная неполитическая деятельность работников промышленных предприятий в условиях перехода к плановому развитию народного хозяйства в СССР на рубеже 1920–30-х гг. Зачастую даже в западной историографии она оказывается в тени «партийной» активности [5, p. 205–206].
Одним из важнейших промышленных регионов Центральной России с начала 1920-х гг. стал Приокский горный округ (впоследствии – Приокский индустриальный район), располагавшийся на смежных территориях Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Нижегородской губерний и включавший более 10 промышленных предприятий, крупнейшими из которых были Верхне-
Выксунский, Нижне-Выксунский, Вильский, Досчатинский, Бушуевский, Кулебакский заводы и Мордовщиковская (впоследствии – Навашинская) судоверфь.
Еще в годы Гражданской войны в условиях хозяйственной разрухи, временной оккупации иностранными интервентами части страны заводы Приокского горного округа продолжали бесперебойно работать и снабжать молодое Советское государство важнейшими изделиями металлургии (железом, рельсами, стальными болванками, трубами, гвоздями и др.) для нужд службы путей сообщения, военных ведомств, объектов промышленного и гражданского строительства. В то же время война и связанные с ней трудности повлияли на работу предприятий тыла и в первую очередь привели к ухудшению условий труда и техники безопасности, которые продолжали оставаться на относительно невысоком уровне еще с конца XIX в. К середине 1920-х гг. после принятия и реализации первых декретов советской власти в сфере охраны труда ситуация несколько улучшилась, однако по-прежнему находилась в неудовлетворительном состоянии, поскольку показатели промышленного травматизма и смертности были стабильно высокими. Работа по охране труда проводилась эпизодически, специальных подразделений с отлаженной структурой и четким планом работы в данной сфере не существовало [6].
Переход к первой пятилетке поставил на повестку дня вопрос о поиске эффективных средств улучшения работы предприятий, в том числе за счет оптимизации расходов и потерь на производстве. В то время причина проблемы виделась в неорганизованности самих работников, отсутствии должного уровня массового правосознания. Решение данной задачи в масштабе всей страны, как и других проблем, в том числе ликвидации социальных болезней (пьянства, алкоголизма, наркомании, венеризма), власть предполагала возложить на общественность.
Основной формой такой работы должны были стать месячники по борьбе с потерями. Данная тенденция не могла обойти стороной Приокский горный округ. На первом расширенном совещании дирекции Выксунских заводов по вопросу о проведении месячника по борьбе с потерями 20 мая 1930 г. в присутствии представителей профессиональных организаций предприятий и цехов был принят план общественной работы. Он предусматривал мобилизацию всей заводской общественности на решение данной проблемы, разработку программы конкретных мероприятий и их реализацию в совокупности с противодействием таким угрозам производственному процессу, как опоздания, прекращение работы раньше времени, появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, посторонние разговоры, грязь и антисанитария в цехах [7, л. 1 – 2]. Главные условия успеха кампании виделись в создании инициативных групп передовых рабочих, вовлечении в общественную работу основной массы работников заводов, достижении их заинтересованности и сборе предложений от трудящихся для последующего внедрения в практику.
Окончательные итоги месячника были подведены на производственном совещании 15 июля 1930 г. Проделанная работа впечатляла размахом агитационных мероприятий: на изготовление многочисленных плакатов было израсходовано 208 метров материи, напечатано на бумаге 6 тысяч экземпляров плакатов с лозунгами [8, л. 19]. Однако основательной индивидуальной разъяснительной работы проведено не было, поэтому сотрудники предприятий не проявили практически никакого интереса к поднятым проблемам. Раздававшиеся рабочим анкеты часто не сдавались ими в заполненном виде или не возвращались назад. Лица, избранные в «тройки» (инициативные группы), практически не принимали участия в общественной работе по данному направлению, а некоторые из них большую часть времени проводили в командировках. Даже партийная организация не приняла действенного участия в мероприятиях, а комсомольская – фактически самоустранилась от них. Единственным исключением являлись работники железных дорог округа, от которых поступило 35 предложений, большая часть которых была принята в работу [9].
Провал общественной кампании, во многом обусловленный ее поверхностным характером вследствие недостаточной подготовленности, наглядно показал несвоевременность возложения ответственности за улучшение условий труда на самих рабочих. По результатам месячника была принята резолюция о необходимости обращения ко всем общественным организациям для планирования дальнейшей совместной работы, а главным итогом стало принятие решения о создании постоянных подразделений по охране труда и технике безопасности, а также установлении и строгом исполнении систематических мероприятий планового характера.
Впрочем, со стороны дирекций заводов данное направление деятельности воспринималось как дополнительное и часто оставалось совсем без внимания. В постановлении Междуведомственной комиссии по борьбе с травматизмом при Горьковском краевом отделе труда по докладу Выксунских металлургических заводов 2 марта 1933 г. отмечался провал в деятельности по созданию безопасных условий труда за 1930–1932 гг. Потери от тяжелых травм в человеко-днях составили в 1930 г. – 8,9, в 1931 г. – 8,2, в 1932 г. – 6,6, что говорило о недостаточном снижении травматизма [10, л. 11]. Только в 1932 г. на 9 816 основных работников крупнейшего Выксунского металлургиче- ского завода приходилось 1037 несчастных случаев [11, л. 3]. Выплаты заболевшим профессиональными заболеваниями и пострадавшим от травм на производстве составили 512 тыс. р. На лечебную помощь, медицинский персонал и медикаменты было израсходовано 526 тыс. р., а общие расходы составили 1038 тыс. р. При освоении 90 % средств, выделенных на улучшение условий труда, ни в одном подразделении дело не было доведено до конца. Большую опасность таила в себе старая промышленная техника. Котловое оборудование представляло собой агрегаты из крайне устаревших котлов, некоторые из которых имели возраст более 40 лет. Новые котлы поступали, но своевременно не устанавливались и хранились небрежно [12, л. 11].
Результатом работы комиссии стало создание на заводах новой постоянной службы в виде специальных отделов охраны труда и техники безопасности и принятие соответствующих положений о их работе на основе типового «Положения об отделе техники безопасности и промышленной санитарии на предприятиях» от 16 января 1933 г. [13, л. 3].
Еще одним способом переломить неблагоприятную тенденцию роста промышленного травматизма стал представляться новый стиль руководства, связанный с принятием жестких мер. Так, приказ № 71 от 20 февраля 1935 г. директора Выксунского металлургического завода вводил личную ответственность начальников цехов за безоговорочное выполнение всех мероприятий по охране труда, определенных комиссией ЦК металлургов и краевого профсоюза. Невыполнение этих мероприятий предусматривало в случае наступления тяжелых последствий передачу материалов в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной ответственности. Начальнику отдела снабжения предписывалось немедленно принять срочные меры для обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Заказы по линии техники безопасности отныне должны были идти со штампом «аварийные». Было установлено обязательное обучение основам безопасности труда как в виде инструктажа вновь прибывавших работников, так и на рабочем месте [14, л. 1].
Одновременно с подобными мерами была предпринята достаточно эффективная попытка реорганизации форм участия общественности в деле охраны труда. Основным органом в данном отношении становилась общественная инспекция труда, которая была реорганизована, а ее состав пополнен за счет привлечения рабочих – передовиков производства, а также представителей научно-технического персонала. Были созданы курсы, и началось проведение инструктажей по охране труда [15, л. 31].
Результатами всех проведенных мероприятий можно считать большее внимание со стороны администрации заводов и цехов к проблемам улучшения условий труда, увеличение финансирования мероприятий по охране труда и снижение промышленного травматизма. Так, в 1935 г. на оздоровительные мероприятия было израсходовано 150 тыс. р. [16, л. 3]. По сравнению с началом 1930-х гг. в 3 раза сократилось количество смертных случаев и тяжелых увечий на производстве [17, л. 5]. Были проведены обследования санитарного состояния Выксунских металлургических заводов, приняты меры по улучшению водоснабжения и водоотведения [18, л. 25]. Повышенное внимание стало уделяться электробезопасности, системам вентиляции и отопления [19, л. 8].
Таким образом, система охраны труда на заводах Приокского горного округа в 1920–1935 гг. прошла эволюцию от уровня отдельных общественных инициатив к планомерному государственному регулированию на основе четкого планирования и соответствующего правового закрепления, что в целом соответствовало уровню стоявших перед государством и обществом задач промышленного развития.
Ссылки:
-
1. Грехов А.В. Социальные последствия Первой мировой войны в материалах Общества русских врачей // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2003. № 4. С. 52–53 ; Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. 216 с. ; Кежутин А.Н. Проблема институционализации медицинской общественности и Первый Всероссийский съезд дантистов в Нижнем Новгороде в 1896 г. // Медицинский альманах. 2016. № 4. С. 41–43 ; Хоффманн Д.Л. Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914–1939 / пер. с англ. А. Терещенко. М., 2018. 422 с.
-
2. Хоффманн Ш.-Л. Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе. 1750–1914 / пер. с нем. Ю.В. Корякова, Д.А. Сдвижкова. М., 2017. 192 с.
-
3. Там же. С. 47–48, 95–96.
-
4. Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гражданское общество / пер. с англ. М.Н. Карпец. М., 2012. 448 с.
-
5. Ascher A. Russia: A Short History. Oxford, 2017. 336 с.
-
6. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. 332 л.
-
7. Там же. Д. 62. Л.1–2.
-
8. Там же. Л.19.
-
9. Тамже.
-
10. Там же. Д. 157. Л.11.
-
11. Там же. Л.3.
-
12. Там же. Л.11.
-
13. Там же. Л.3.
-
14. Там же. Д. 291. Л.1.
-
15. Там же. Д. 294. Л.31.
-
16. Там же. Д. 294а. Л.3.
-
17. Там же. Д. 208. Л.5.
-
18. Там же. Д. 157а. Л.25.
-
19. Там же. Д. 208а. Л.8.
Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна
Список литературы Охрана труда на заводах Приокского горного округа в 1920-1935 гг.: от общественных инициатив к государственному регулированию
- Грехов А.В. Социальные последствия Первой мировой войны в материалах Общества русских врачей // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2003. № 4. С. 52-53.
- Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. 216 с.
- Кежутин А.Н. Проблема институционализации медицинской общественности и Первый Всероссийский съезд дантистов в Нижнем Новгороде в 1896 г. // Медицинский альманах. 2016. № 4. С. 41-43.
- Хоффманн Д.Л. Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914-1939 / пер. с англ. А. Терещенко. М., 2018. 422 с.
- Хоффманн Ш.-Л. Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе. 1750-1914 / пер. с нем. Ю.В. Корякова, Д.А. Сдвижкова. М., 2017. 192 с
- Хоффманн Ш.-Л. Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе. 1750-1914 / пер. с нем. Ю.В. Корякова, Д.А. Сдвижкова. М., 2017. С. 47-48, 95-96.
- Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гражданское общество / пер. с англ. М.Н. Карпец. М., 2012. 448 с
- Ascher A. Russia: A Short History. Oxford, 2017. 336 с
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. 332 л
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 62. Л. 1-2.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. Л. 19.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. Л. 19.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 157. Л. 11.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. Л. 3.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. Л. 11.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 23. Л. 3.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 291. Л. 1.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 294. Л. 31.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 294а. Л. 3.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 208. Л. 5.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 157а. Л. 25.
- Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-1250. Оп. 3. Д. 208а. Л. 8.