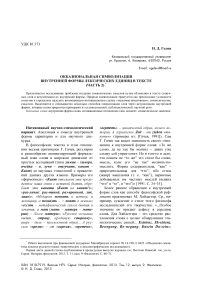Окказиональная символизация внутренней формы лексических единиц в тексте (часть 2)
Автор: Голев Николай Данилович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Продолжается исследование проблемы создания символических смыслов путем сближения в тексте созвучных слов и актуализации их внутренней формы. Природа символизации трактуется как преодоление условности созвучия и стремление наделить возникающую мотивационную сцепку «надкоммуникативным», символическим, смыслом. Выделяются и описываются несколько способов символизации слов через актуализацию внутренней формы, которые иллюстрируются примерами из художественной, публицистической, научной речи.
Внутренняя форма слова, мотивационные отношения слов, концепт, символическое значение
Короткий адрес: https://sciup.org/147218744
IDR: 147218744 | УДК: 81.373
Текст статьи Окказиональная символизация внутренней формы лексических единиц в тексте (часть 2)
Интенсивный научно-этимологический вариант . Апелляция к смыслу внутренней формы характерна и для научного дискурса.
В философских текстах в этом отношении весьма оригинален Г. Гачев, регулярно и разнообразно активизирующий формальный план слова в широком диапазоне от простых ассоциаций (типа химия – химера , ячейка – я , лучи – отлучить , канат – Кант ) до научных этимологий с привлечений данных других языков. Примеры его «формописи»: « Кант отсекает эти врожденные наши связи с истиной бытия , обрубает эти канаты ( Кант на канат ! )»; « раз-личие : рас-такой , раз-яренный , лик , лицо )»; « Недаром познать и истину , и женщину , а по ( ня ) ть – = поять в жены »; « е ( с ) ть – метафизический глагол бытия и зачатия , а мат ( мать – матерь – материя ) – Логос матери »; « Русское сознание видит... страну , « родимую сторонку », ширь – даль – плоскостной образ... А русское « время » – от « веремя », « вретено »,
« вертеть » – циклический образ , колесо истории. А германское Zeit – от ziehen « тянуть »» (примеры из: [Гачев, 1991]). Сам Г. Гачев так видит значимость своего отношения к внутренней форме слова: «То же слово, да не так бы молвил – давно уже слышу сей упрек-совет. Но в том-то и дело, что совсем не “то же” это стало бы слово, мысль, коли его “не так” молвить-по-мыслить. Форма содержательна, “как” – прародительница для “что”, ибо стиль (жанр) мышления (т. е. “как”), первичнее добываемых им частных мыслей (всяких “что” и “то”, и “это”)» [1991. С. 34–35].
Более ранние обращения к внутренней форме слов как способу философской рефлексии практиковал М. Хайдеггер. Ср., например, суждение о стиле этого философа исследователей его творчества: «...Особое значение он придает дефису в середине слова. Для Хайдеггера – это средство расчленения слова с целью обнаружения этимологических связей... Existenz , Ek-sistenz ; Bewegung , Be-wegung ; Dasein Da-sein »;
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (проект № 16.740.11.0422 «Обыденная семантика лексики русского языка: теоретическое и лексикографическое исследование»).
Первая часть данной статьи опубликована в предыдущем выпуске журнала, см.: Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 9: Филология. С. 66–71.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология
«В философском языке Хайдеггера такая конструкция (тавтология. – Н. Г. ) несет на себе очень большую нагрузку... die Welt weltet (мир мирует), die Sprache spricht (язык говорит), di e Dingen dingen (вещи действуют, как вещи)» [Зайцева, 1991. С. 166]. Для немецкого философа такие приемы не внешние, в них находит прямой выход его философия языка, ср.: «Мыслящий должен принадлежать языку, если он желает пробиться к внутреннему строению самой вещи как совокупности ее составляющих архаических произнесений: вещь... должна как бы “шевелиться”, впервые выговаривать себя, “высловлять” в своем звучащем облике» [Подорога, 1991]. По Хайдеггеру, «язык впервые дает имя сущему, и благодаря такому именованию сущее впервые обретает слово и явление; такое именование, о-значая сущее, впервые на-значает его к его бытию» [Там же]. Совсем другим образом (не углублением в архаику слова, а вслушиванием в его сегодняшнюю ауру) связывается сущность именуемого (человека) и имени у П. Флоренского: «Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [1990. С. 362].
Интенсивный лексико-ассоциативный вариант актуализации внутренней формы. В символических целях в текстах разных типов активно эксплуатируются обыденные формально-семантические ассоциации, осознано встраиваемые в содержательную структуру текста в форме метаязыковых вставок для усиления его экспрессии: «Баба Маня подарила мне такой заговор: “Рак-сатана, отшипись от меня”. Вместо безличного отцепись – отшипись, где слышится и клешня с шипами, и слово щипать» (Родина); «Дядя Гриша – земля ему пухом... Ямщик лихой, бывало, у него во хмылу сидит. Тут и хмель, и пьяная ухмылка» (Родина); «В первой азбуке, сотворенной Константином, мне чудится что-то весеннее – первые сочные голоса. Гласы. Ее назвали глаголицей» (Наш современник); «Монька любила волнующий привкус слова “марьяжный”, похожего на “грильяж”, “макияж”, а еще на слова “охмурять”, “Иван-да-Марья”» (М. Палей). Пример более активного использования метаязыкового сознания для семантизации формальноассоциативных связей слов на собственноморфемном уровне: «Что же произошло за сорок с лишним лет... когда двор перестал быть главным местом обитания, когда слово двор, дворовые кумушки, дворовая девчонка, дворник вообще ушли из нашего обихода» (Лит. газета). Совсем другую символику этот ряд рождает в знаменитом стихотворении-песне Б. Окуджавы «Я дворянин Арбатского двора». «И у него сияюще синий цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связанный с ростом. Урожаем, рождением; рожь – это то, что рожает земля» (Д. Лихачев). Русский, белорусский – два славных языка, братских двух народов – единая душа. В созвучье слов прекрасных – славянская краса, как летним утром ранним прозрачная роса 1. Мы забываем, повзрослев едва, Что общим корнем связаны слова: народ, и благородство, и природа (И. Киселев).
Интенсивный фоносимволический вариант. Фоновое суггестивное содержание достигается сближением слов с одинаковой фонетической структурой. «Время смежает веки. И по Отчизне “стррах” раздается, “пррах” раздается, “кррах”» (Д. Быков.); в примере созвучие актуализирует в словах негативную сему, усиливаемую акцентуацией «грозного» звука р. Эта же звуковая ассоциация используется в песне Романа Ма-тюшева «Крах»; ср. также обыгрывание такого рода звучания, но уже несколько иным способом у В. Высоцкого: «Названье КРОХЕЯ – от слова “КРОШИ”, от слова “КРЯХТИ” и “КРУТИ”, и “КРУШИ”. Девиз в этих матчах – “КРУШИ, не жалей!”. Даешь королевский КРОХЕЙ!»; И еще пример со звуком р : «Нашу экономическую реформу, по-моему, рановато называть “р-ра-дикальной”, “кар-рдинальной” и прочими рычащими эпитетами» (Лит. газета); «А потом – темный ужас: все летит в тартарары... Татары 2. Иго… Иго-го-го-го... Конское издевательское ржание несется над беззащитной Русью» (А. Мелихов). Статья о книге В. Даля «Пословицы русского народа» завершается репликой «За Далем даль», имеющей богатую формально-ассоциативную структуру, порожденную корнем слов. В современном рекламном дискурсе ассоциации такого рода выходят из круга эстетико-игровых, проницательные заказчики товарного имени по праву видят в них серьезный прагматический (суггестивный) смысл, ср.: Название «Тролль» появилось у нашей компании давно, теперь можно сказать, что так сложилось исторически). Название, безусловно, не подходит для большой компании, работающей с серьезными заказчиками, но при этом оно широко известно, у нас множество постоянных клиентов и репутация надежного партнера. В качестве одного из направлений предлагаем вам поработать с этим словом, мы готовы рассматривать слова, созвучные нашему нынешнему названию, визуально похожие 3.
Экстенсивный фоносимволический вариант . Этот способ актуализации внутренней формы слова и текста (текста – в большей мере) хорошо известен по аллитерации и парономазии. Вечер. Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн (К. Бальмонт); Где , он , бронзы звон или гранита грань ; Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте , молот и стих , землю молодости (В. Маяковский); Трое суток было слышно , как в дороге скучной , долгой , перестукивали стыки : на восток , восток , восток... (П. Антокольский).
Возможности ономатопейи и аллитерации в поэтическом тексте хорошо известны. Меньше замечаются они в текстах прозаических, хотя их роль здесь также достаточно явственна. Более того, общая суггестивная направленность и соответствующая им структурная организация, по сути, во всех типах текстов одинакова. Ср., например, принципы создания суггестии в отрывках из художественного, поэтического и психотерапевтического текстов, в которых фонетическая аллитерация встроена в систему лексических, морфологических и синтаксических повторов, что делает данные тексты и структурно, и функционально гомогенными: «Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще...» [Флоренский, 1990. С. 49]; «Бурнобурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в мои глаза. Новорожденная жизнь рождает яркие-яркие, сияющие-сияющие, новорожденно-юные прекрасные глаза. Новорожденная жизнь рождает новорожденно-юные, новорожденно-юные прекрасные глаза. Волевые умные глаза. Лу-чистые-лучистые блестящие глаза, лучистые блестящие глаза. Новорожденная жизнь рождает сильные-сильные неутомимо сильные глаза» [Сытин, 1991. С. 114]. Так же устроен и поэтический текст подобного типа: «Зелень бамбука пронзает кожу, Зелень бамбука пронзает кости. О этот острый зеленый бамбук! В чаще бамбука в дымке зеленой Дрогнула зелень: взлетает голубь, Голубь взлетает в зеленой дымке...» [Из современной японской поэзии, 1981. С. 66]. Разумеется, приведенные примеры иллюстрируют высокую степень актуализи-рованности материальной формы очерченного типа, но в той или иной мере она представлена во многих суггестивных текстах.
Экстенсивный синтагматический вариант. Созвучные слова встраиваются в синтагматику текста, чем непроизвольно актуализируется их формальная, а вслед за ней и смысловая близость. Несколько примеров. Сколково, - это лишь слово, похожее на осколок разбитого зеркала. И никто на этом свете ещё не почувствовал это слово как родное, даже президент Медведев избегает произносить его 4. «Как встретить Бога лицом к лицу, если лица нет, если вместо него – личина» (С. Аверинцев); «Коллектив – это плечо к плечу. Рука об руку, локоть к локтю... Личность – это прежде всего лицо, где взгляд и свет» (заголовок статьи «Светлая личность») (Лит. газета); В некоторых примерах из предыдущего абзаца отчетливо видно стремление их авторов к включению формально-семантических слов-ассоциатов не только в прагматический и семантический планы контекста, но и в план его синтагматики, ср.: «С этими словами Лобова кончилось гнусное лобов- ское, лобное дело» (Н. Помяловский). Нужно заметить, что мотивационные отношения всегда обладают определенным синтагматическим потенциалом, укрепляющим его системные позиции в языке (через системные отношения в тексте). Ср.: «Лексические единицы одного звуко-ассоциативного ряда имеют тенденцию группироваться в пределах обозримого сегмента поэтического текста; вообще складывается впечатление, словно одно слово властно притягивает к себе другие члены звуко-ассоциативного ряда...» [Гончаренко, 1995. С. 162].
Это обстоятельство находит отражение в обыденном языковом сознании, например, в «Слове о погибели Русской земли»: « О светло-светлая и красно украшенная , земля Русская! ». Этот прием экстенсивной мотивации - нанизывание однокорневых слов, эпидигматическое насыщение текста -было весьма продуктивно в фольклоре и некоторых жанрах древнерусской литературы. «Экстенсификация» плана выражения позволяет акцентировать внимание на нем, тем самым преодолеть автоматизм восприятия и реализовать эстетическую функцию слова. Ср.: Полно зимушке зимою зимовать , время летушку-то с весной наступать ; Ой иди-нейди , моя матушка за мною ; Да ты сестра моя ; сестриченька ; Да он хвалил , все нахваливал ; В поле ; черная черемушка чернеешь или нет? ; Ветер дует , ветер дует , ветерочка не унять . Из «Слова о полку Игореве»: Жены русские восплака-лисъ , приговаривая : « Уже нам своих милых лад ни мыслию не смыслить , ни думою не сдумать »; А самих опутали в путы железные ; трубы трубят городенские ; Из Киева дорыскивал до петухов Тмутороканя , великому Хорсту путь переискивал ; кукушкою безвестной рано кукует ; О ветер , ветрило !
В следующих примерах синтагматизиро-ванных формально-семантических ассоциаций в детском языковом сознании («родственном» фольклорному 5, поэтическому) хорошо иллюстрируются системообразующие свойства мотивационных отношений данного типа. В повести А. Мелихова «Изгнание из Эдема», построенной в виде воспоминания автора о своем детстве, хорошо показано своеобразное мифологически-до-верчивое языковое сознание ребенка, побуждающее его прибегать к соответствующим речепорождающим формулам: «У чужаков сами имена были какие-то потешные: Печеные печенеги, сбрендившие Берендеи, куда-то вторкнутые торки, оттесненная нами начудившая чудь, - а у современных врагов так и кличек таких отвратительных не выдумаешь. Гитлер! Черчилль!»; «Игорь, дважды грабивший каких-то уже тогда древних древлян, был наш»; несколько иные варианты актуализации внутренней формы слов представлены в следующих примерах из той же повести: «Что ж, отчего бы и там не найтись еще одно сахарной Сахаре, раз она есть в фыркающей Африке, чей изглоданный череп я подолгу разглядывал на папиной настенной карте».
Экстенсивный деривационный вариант. Мотивационные ассоциации обладают сильным лексико-деривационным потенциалом. Прекрасную иллюстрацию этому находим у В. Набокова в его эссе, посвященном Н. В. Гоголю: «Обратите внимание на ласковые прозвища, которые чиновники города дают игральным картам: черви -это “ сердца ”, но звучат как червяки6 и при лингвистической склонности русских вытягивать слово до предела (! - Н. Г.) ради эмоционального эффекта, становится “червоточиной”, пики превращаются в пикенцию, обретая игривое окончание из кухонно латыни , или же в псевдогреческое пикендрасы, пичуры (с легким орнитологическим акцентом), а иногда перерастают в пищурущуха, где птица превращается уже в допотопного ящера, опрокидывая эволюцию видов». Деривационный потенциал слова достаточно часто в эстетических целях непосредственно реализуется в словообразовательных моделях, представляемых, как правило, аффиксами: «Доминанта - реальный стержень (сдержень) процесса, грозящего обернуться хаосом» (Родина); «Эту великую книгу впору назвать не книгой, а книгиней, ибо нерукотворно созданная, она сама теперь стала хранительницей своей Родины» (В. Волков).
OCCASIONAL SYMBOLIZATION OF THE LEXICAL UNITS INNER FORM IN THE TEXT
Список литературы Окказиональная символизация внутренней формы лексических единиц в тексте (часть 2)
- Гачев Г. Книга удивлений, или естествознание глазами гуманитария, или образы в науке. М., 1991.
- Гончаренко С. Д. Символическая звукопись, квазиморфема как «внутреннее слово» в процессе поэтической коммуникации // Язык - система. Язык - текст. Языковая способность. М., 1995.
- Из современной японской поэзии. М., 1981.
- Подорога В. А. Erectio. Геология языка и философствования Мартина Хайдеггера // Философия М. Хайдеггера и современность. М., 1991.
- Сытин Г. Н. Животворящая сила. Помоги себе сам. М., 1991.
- Флоренский П. А. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.