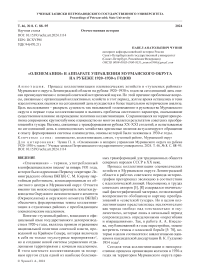«Оленемания» в аппарате управления Мурманского округа на рубеже 1920-1930-х годов
Автор: Чунин П.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 8 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Процесс коллективизации оленеводческих хозяйств в «туземных районах» Мурманского округа Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х годов на сегодняшний день описан преимущественно с позиций советской исторической науки. По этой причине проблемные вопросы, связанные с организацией коллективных хозяйств в этот период, долгое время оставались в тени идеологических оценок и на сегодняшний день нуждаются в более тщательном историческом анализе. Цель исследования раскрыть сущность так называемой «оленемании» в руководстве Мурманского округа в первые годы коллективизации и выявить проблемы системного характера, оказывавшие существенное влияние на проведение политики коллективизации. Сохраняющееся на территории региона современное крупнотабунное оленеводство во многом является результатом советских преобразований в тундре. Вызовы, связанные с трансформациями рубежа XX-XXI столетий, и испытываемые по сегодняшний день в оленеводческих хозяйствах кризисные явления актуализируют обращение к опыту формирования системы оленеводства, основы которой были заложены в 1930-е годы.
Оленеводство, коллективизация, совхоз, «туземный район», мурманский округ
Короткий адрес: https://sciup.org/147245794
IDR: 147245794 | УДК: 94(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1114
Текст научной статьи «Оленемания» в аппарате управления Мурманского округа на рубеже 1920-1930-х годов
«Оленемания» – термин, употребленный в конфиденциальном письме1 за январь 1931 года, которое было адресовано Первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Кирову партийным работником, командированным из областного центра в Мурманский округ. Отчасти именно так можно охарактеризовать попытки руководства Окружного исполнительного комитета (Окрисполкома) и окружного комитета ВКП(б) обеспечить форсированные темпы коллективизации в отдаленных районах с преобладающим оленеводческим населением.
Понятие «туземный район», вошедшее в официальный язык государственного делопроизводства в 1920-е годы, являлось прямым отражением национальной политики советской власти, проводимой на Крайнем Севере, которая включала в себя не только «культурные мероприятия»2, но и создание новой системы управления отдаленными территориями с кочевым населением. В этом контексте коллективизация за полярным кругом стала одной из наиболее болезнен
ных трансформаций для традиционных обществ северных народов СССР в XX веке.
Процесс коллективизации оленеводческих хозяйств в Мурманском округе Ленинградской области в работах советского периода историографии претерпевал эволюцию в соответствии с идеологической линией. Несомненно, в трудах советских авторов [5], [8] содержался значительный фактографический материал, позволяющий воспроизвести обобщенную картину преобразований в «советской тундре». Но в целом коллективизация представлялась исключительно как череда «побед» над «отсталостью» и «кулачеством», которые лишь в начальный период сопровождались определенными «перегибами и извращениями». Так, в работе А. А. Киселева, опубликованной в годы перестройки, можно встретить тезисы о классовой борьбе [5: 70], которые в целом соотносятся с аналогичными оценками в кандидатской диссертации В. К. Гудзенко 1954 года3.
Сегодня тема коллективизации и непосредственно процесса организации колхозов в 1930-х годах на территории Мурманского округа прак- тически не переосмыслена концептуально [11: 51]. Стоит отметить, что в работе Ю. Н. Константинова [15] была выдвинута теория о влиянии колхозной системы на повседневную жизнь оленеводов Кольского полуострова, в рамках которой происходило инкорпорирование элементов частного хозяйства оленеводов в колхозную систему и использование обобществленного имущества в личных целях. Поднималась проблема отождествления «кооперативного» (относящего к эпохе НЭПа) и «совхоистского» этапа истории саамов [15: 112], периода, когда оленеводческое население тундры активно применяло практику эксплуатации и манипулирования обобществленной собственностью для укрепления благосостояния отдельных хозяйств. Однако в исследовании акцент был сделан на социально-антропологических аспектах, значительное внимание уделялось бытовым сюжетам жизни оленеводов в 1980–1990-е годы.
Опубликованные в последние три десятилетия работы преимущественно касались области этнографии [4], социальной антропологии [14], затрагивали тему политических репрессий [10] в отношении коренных малочисленных народов. Коллективизация не являлась в них центральной исследовательской проблемой, а присутствовала лишь в качестве контекста эпохи.
На современном этапе оленеводство на территории Мурманской области продолжает испытывать кризисные явления [6: 24] после распада прежней хозяйственной системы, одновременно демонстрируя некоторые тенденции к стабилизации [3: 31]. По этой причине важно актуализировать опыт хозяйственной деятельности в тундре в момент формирования советской системы оленеводства в условиях, когда в регионе по-прежнему сохраняются сельскохозяйственные производственные кооперативы, фактически являющиеся правопреемниками советских совхозов и колхозов.
При рассмотрении процесса коллективизации в округе был использован системный подход, позволивший проанализировать мероприятия государственной политики в отношении оленеводческого населения. В качестве основы данного исследования были избраны принцип историзма и историко-сравнительный метод, использовавшийся при описании деятельности аппарата управления в «туземных районах» Мурманского округа.
Источниковой базой работы стали преимущественно архивные фонды Государственного архива Мурманской области: Ф. П-2 (Мурманский окружной комитет ВКП(б)), Ф. Р-162 (Мур- манский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и рыбацких депутатов), Ф. Р-170 (Отдел рабоче-крестьянской инспекции), Ф. Р-177 (Мурманское окружное земельное управление), Ф. Р-213 (Окружная плановая комиссия).
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОМ НАСЕЛЕНИИ В АППАРАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУГА
В советской концепции коллективизации одними из господствующих оставались тезисы о целенаправленном вредительстве со стороны «контрреволюционных сил»4 и упорном сопротивлении кулачества [5: 69]. Наряду с этим упоминались и сложности в управлении колхозной системой, связанные с «кабинетным руководством» [8: 151], формальным подходом со стороны органов исполнительной власти и партийного аппарата округа. Однако одним из первостепенных для марксистско-ленинского подхода являлся все же идеологический фактор. Соответственно, проблемные вопросы, связанные с организацией и первыми годами деятельности оленеводческих коллективных хозяйств и не укладывавшиеся в идеологические рамки, не становились предметом подробного исторического анализа. К числу таких вопросов следует отнести идею об ускоренном характере коллективизации среди оленеводческого населения, имевшую распространение среди окружного и районного руководства и базировавшуюся на упрощенных этнографических представлениях, а также на сохранявшихся элементах архаичных социальных и хозяйственных отношений после распада территориально-семейной общины [7: 103]. Идея о традициях коллективного труда, которые могут способствовать ускоренному процессу коллективизации, фугировала в документах данного периода в среде областного5 и окружного аппарата управления. При этом, как и в других районах [12: 148] Крайнего Севера с кочевым населением, при проведении данной политики игнорировались сохранявшиеся «пережитки религиозных воззрений и суеверий»6, к примеру культ оленя, его место в картине мира жителей тундры [2: 88]. Так, в рамках отчетного доклада, составленного в 1928 году руководителем Мурманского Комитета Севера В. К. Алымовым для Окрисполко-ма, в заключительных положениях фигурировал вывод о том, что необходимость организации коллективных хозяйств «вытекает из сущности лопарского быта»7. В проекте плана коллективизации рыболовецких и оленеводческих хозяйств Мурманского округа от 1929 года, также составленного В. К. Алымовым, значился следующий тезис:
«Строительство оленеводческих колхозов возможно вести темпом более быстрым, чем рыбацких и сельскохозяйственных <…> этому способствует сохранившаяся у лопарей общность труда»8.
В дальнейшем это же заключение9 отразилось уже в документах Мурманского окружного союза смешанных (интегральных) кооперативов (Интегралсоюза), в записке «Об организации оленеводческих хозяйств в Мурманском округе в 1928/29–1932/33 гг.», которая фактически являлась копией упомянутого плана. Схожие оценки о предрасположенности оленеводческого населения к коллективному труду можно встретить в письме Е. Г. Байнера, который был врачом в с. Ловозеро – райцентре одного из «туземных районов». Опираясь на свои наблюдения, он указывал на наличие формы «первобытной коллективизации оленеводческого хозяйства у лопарей»10.
Необходимо подчеркнуть, что в действительности присущее саамам чувство коллективизма [4: 42], неоднократно описанное этнографами, имело определенные рамки. К началу XX века у кочевого населения тундры уже сформировалось представление «о своих землях» и своеобразное «чувство собственности»11, в связи с этим традиции коллективного труда необходимо рассматривать в контексте существовавших отношений, когда система хозяйствования была тесно связана с природным циклом, то есть до активного внешнего вмешательства в традиционную жизнь населения тундры. Поэтому на сегодняшний день рассмотренная точка зрения представляется как минимум дискуссионной. Однако на рубеже 1920–1930-х годов, учитывая тесное взаимодействие Комитета Севера с Окружным земельным управлением (Окрзе-мом), а также дальнейшую реорганизацию этого органа – фактическое включение его в состав плановой комиссии [9: 15], перечисленные документы, вероятно, не оставались без внимания со стороны руководства округа и могли, помимо общесоюзной политики и директив областного центра, влиять на проведение кампаний по коллективизации в «туземных районах»12.
«ОЛЕНЕМАНИЯ» В ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Характерным примером этих убеждений может служить динамика коллективизации оленеводческих районов в начале 1930-х годов, неоднократно описанная в работах советских [8: 150] и современных исследователей [13: 65]. Типичным образчиком «оленемании» в отношении тундровых погостов округа выступают также данные
1930 года, содержавшиеся в информполитсводке о ходе коллективизации. В частности, в документе отмечалось, что из 252 хозяйств Ловозерско-го района по состоянию на 20 февраля коллективизировано восемь, или 3,1 %, одновременно подчеркивалось, что приведенные данные «не соответствуют сегодняшнему дню»13 и оленеводческие хозяйства указанного района на момент составления сводки коллективизированы уже на 100 %.
В качестве следующего примера можно указать доклад 1931 года «Перспективы развития хозяйства Мурманского округа»: в тексте документа, с учетом общесоюзной конъюнктуры, допускалась возможность довести общую численность поголовья оленей до 150 000 к концу десятилетия и в перспективе увеличить эту цифру еще в полтора раза14. Современные оценки предельной допустимой численности поголовья домашнего оленя определяются примерно в 80 000 голов – это связывается с серьезной нагрузкой на экосистему тундры и риском истощения пастбищных земель при крупнотабунном оленеводстве [6: 23]. Одним из итогов данного подхода в первые годы проведения коллективизации в округе стало временное снижение поголовья домашнего оленя. К этому привел целый ряд обстоятельств объективного характера, связанных с отсутствием материальной базы, зоотехнической части и кадрового обеспечения в оленеводческих колхозах, наряду с политическими кампаниями в тундре. Так, в колхозной системе округа и созданном оленеводческом совхозе число оленей сократилось с 61 700 голов в 1931 году до 52 500 к 1932 году, что было отмечено в Постановлении коллегии Народного комиссариата земледелия РСФСР от 9 апреля 1933 года15.
Необходимо подчеркнуть, что упомянутая в письме на имя С. М. Кирова «оленемания» во многом касалась деятельности оленеводческого совхоза, учрежденного Ленинградским областным отделением Госторга в январе 1930 года. Процесс его организации и деятельность первых лет описаны довольно кратко [5: 73]. Однако данное хозяйство представляло значимость для областного и окружного руководства, так как его продукция, в первую очередь шкура оленя, поставлялась на внешний рынок, из стада олен-совхоза выделялся «экспортный контингент»16. Параллельно с этим в тех же целях совхоз занимался разведением пушного зверя в других районах округа.
Совхоз был расположен относительно близко к окружному центру: восточная его граница проходила фактически по берегу Кольского залива, летние кочевья располагались на п-ове Рыбачий и в районе р. Западная Лица, зимние кочевья про- стирались до предгорий Хибин – района Чуна-Тундры17. С точки зрения «ягелеустройства» этот обширный район к 1929 году был изучен довольно слабо. Запасы ягеля определялись по упрощенной формуле и оценивались в 32,5 млн тонн, а примерная площадь кормовой базы исчислялась путем исключения из территории округа «болот, прибрежной и прижелезнодорожной по-лосы»18 и на основании показаний оленеводов. Спустя полтора года после организации совхоза в протоколе совещания при Мурманском Оркзе-ме за 1931 год отмечалось, что ягелеустройство в районах, относящихся к совхозу, планируется начать в текущем году и продолжить в следу-ющем19. Соответственно, процесс, связанный с исследованием кормовой базы, растянулся на несколько лет, что приводило в неверным прогнозам по увеличению поголовья стада. Здесь, как и в случае с коллективными хозяйствами, созданными в «туземных районах», отчетливо прослеживается попытка резко увеличить поголовье оленей, несмотря на слабую изученность зоотехнического и ветеринарного аспекта, а также фрагментарную информацию о кормовой базе. Перечисленные факты неоднократно фиксировались в документах органов исполнительной власти округа в начале 1930-х годов20.
Говоря о динамике организации совхоза, подчеркнем, что только за первые несколько месяцев с момента его учреждения количество планируемого поголовья оленьего стада увеличивалось трижды. В январе 1930 года речь шла о 1000–1200 оленях21, в феврале цифра возросла до 300022, в апреле Мурманский окриспол-ком разрешал закупку уже «до 6000 оленей в текущем году»23. При этом еще в конце 1929 года в письме Мурманскому окрисполкому представители Госторга подчеркивали, что
«трудность организации оленных хозяйств прежде всего заключается в создании первого звена, вследствие стремления нового стада разбегаться к старым пастбищам, даже при хороших пастухах»24.
Это опасение полностью подтвердилось через год, когда крупные стада, приобретенные в восточных районах округа и изъятые у «кулаков», «разбредались на старые пастбища»25.
Летом 1931 года поголовье оленсовхоза Госторга достигло 10 500 оленей. В этот период хозяйство продолжало испытывать системные трудности26, в том числе проблемы в борьбе с эпизоотиями, в частности так называемой копыткой (некро-бациллезом), ощущался дефицит ветеринарных кадров, не был достроен ветеринарный пункт, требовалась усиленная борьба с хищниками. Перечисленные факты привели к снижению поголовья стада оленсовхоза к концу 1932 года на 4000 голов27.
В то же самое время в Окрземе и Мурманском молочно-животноводческом союзе зрела идея о возможности использования оленьего молока для «выработки из него сыра, масла и других продуктов»28. Согласно данным протокола заседания при Окрземе от 29 июня 1931 года, предполагалось включить в производственные планы совхозов и колхозов на 1932 год выработку указанных продуктов и выделить на дойку молока не менее 1000 важенок29. Это предложение в конечном счете было ограничено рамками эксперимента с выделением 20 важенок, «рентабельность мероприятия»30 была поставлена под сомнение. Проследить дальнейшую судьбу данного сельскохозяйственного опыта на сегодняшний день не удалось. Рассмотренная попытка перейти к массовому производству оленьей молочной продукции на фоне системных трудностей при организации совхоза являлась очередной иллюстрацией «оленемании» со стороны аппарата управления округа.
КАДРОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Обращаясь к проблемным вопросам коллективизации «туземных районов», необходимо выделить проблему управления со стороны органов исполнительной власти в начале 1930-х годов, а также проблему кадрового обеспечения, которые в рамках советской концепции коллективизации неизменно оставались в тени «грубейших извращений политики партии на Крайнем Севе-ре»31. Так, комиссия Рабоче-крестьянской инспекции, посетившая в январе – феврале 1930 года оленеводческие Ловозерский и Понойский районы, отмечала целый ряд фактов, свидетельствующих о слабой степени управляемости отдаленными территориями.
В Понойском районе председатель районного исполнительного комитета (РИК) после получения директивы Окрисполкома «О коллективизации Мурманского округа» от 21 октября 1929 года по причине отсутствия должной связи, дошедшей лишь к концу декабря, ограничился тем, что ознакомился с документом лично, не доведя его содержание до населения района. Представителям окружного центра председатель «тов. Долгих откровенно заявил, что в колхоз не пойдет, т. к. не желает работать вместе с ло-дырями»32. Комиссия отмечала также, что работа по коллективизации «рыбацко-оленеводческих хозяйств» не проводилась в принципе, ни на уровне сельсоветов района, ни РИКом33.
Существенной проблемой в рассматриваемый период стоит признать уровень грамотности мест- ного звена советского аппарата управления в «туземных районах», а также административного состава колхозов. В Понойском районе из четырех председателей сельсоветов один был «совершенно неграмотным»34, остальные относились к категории малограмотных. Так, в протоколе по чистке советского аппарата в погосте Йоканьга фиксировалось, что председатель местного сельсовета, исполнявший одновременно и функции секретаря, саам Е. Е. Матрехин, 1911 г. р., фактически не имевший опыта руководящей работы, «в день приезда комиссии был в пьяном состоянии – праздновал Новый год»35.
В Ловозерском районе комиссией по проверке и чистке советских учреждений отмечалось, что председатель РИКа, ижемец-оленевод М. Те-реньтев имел «низшее» образование, не обладал авторитетом36 в момент создания коллективных хозяйств, взаимодействуя с кооперативными организациями и оленеводческим опорным пунктом. До начала коллективизации основой экономической жизни райцентра выступало районное промышленно-потребительское общество (ППО), в котором население имело возможность реализовывать продукцию через имевшийся «замшевый завод» и пайщиками которого являлись 100 % жителей с. Ловозеро (369 человек). Отмечалось, что председатель ППО не желал выстраивать коммуникацию с председателем РИКа и «послал его не в литературную область слов»37.
Трудности, связанные с уровнем грамотности административного аппарата оленеводческих колхозов, отражены и в документах за 1931 год. Подчеркивалось, что председатели колхозов ма-лограмотные38; в одной из информполитсводок отмечалось, что во многих колхозах округа отсутствует статистический и финансовый учет, в отдельных случаях грамотных счетоводов нет в принципе, и «особенно тяжело это отражается на национальных отсталых лопарских районах»39. По данным Окружного союза оленеводческо-животноводческих колхозов из 13 коллективных хозяйств, входивших в систему союза, семь не имели счетного аппарата и не вели учет тру-додней40. К примеру, в Кольско-Лопарском районе протокол заседания Пулозерского сельсовета от 23 декабря 1931 года фиксировал, что председатель местного органа власти не состоит в колхозе, в самом же коллективном хозяйстве «почти все неграмотные»41, а имеющиеся культармей-цы работы по ликбезу не проводят.
По всей видимости, до начала первых кампаний по борьбе «с перегибами» в соответствии с проводившейся общесоюзной политикой представители руководства округа, посещавшие «туземные районы», во многом руководствовались критериями политической лояльности, а также национальной и классовой принадлежно- стью местных кадров. Как отмечалось в докладе В. К. Алымова за 1928 год, среди председателей сельсоветов, направленных на курсы в Мурманск, были «люди совершенно неграмотные, но в курсе советской политики»42.
К числу проблемных вопросов стоит также отнести рост межэтнической напряженности в тундре в начальный период коллективизации. В работах прошлого века внимание, как правило, акцентировалось на взаимоотношениях саамских и коми-ижемских хозяйств, перекочевавших на Кольский полуостров в последней четверти XIX века [6: 22]. Однако в это же время, после мероприятий по обобществлению подавляющего большинства оленей и административного давления43, в отдельных районах обострились межнациональные отношения между жителями тундры и русским населением в лице командированных партийных работников, сотрудников местного аппарата управления. Важно подчеркнуть, что конфликтные ситуации, происходившие ранее, возникали преимущественно на хозяйственно-экономической почве, в частности были связаны с распределением промысловых тоневых участков в Териберском районе. Так, в 1928 году один из представителей окружного аппарата управления фиксировал «некоторую степень недовольства» в вопросе распределения территорий – «получается, что русское население против лопарского»44, отмечал секретарь Окрисполкома Семенихин.
Однако коллективизация, охватившая округ, по всей видимости, в ряде саамских и ижемских погостов сместила акцент с бытовых конфликтов в политическую плоскость. Организационный отдел Мурманского окрисполкома, рассматривая в 1930 году «факты искривления классовой линии», сообщал, что при организации колхоза в с. Ловозеро в период выборов председателя некоторые колхозники, в частности член местной партийной организации, заявляли: «…не надо русского в председатели, нужен ижемец или лопарь»45. Кроме того, в протоколе Ивановского сельсовета Ловозерского района от 7 июля 1931 года при рассмотрении вопроса о «непре-кращающихся кулацких выступлениях» были отмечены следующие факты. По мнению руководства сельсовета, «наличие русских работников на руководящей работе»46 являлось одним из аргументов «кулака» против советской власти. Отдельные члены правления сельсовета сохраняли тесные контакты с «кулаками», и в момент совместного проведения досуга «заявляли членам колхоза, что они продались русским»47. Приводилась также цитата, приписываемая одному из оленеводов, не вступивших в колхоз: «…русские нами командуют, от нас выкачивают огромное количество денег, товаров… и скоро нас совсем отсюда выживут»48. По словам председателя сельсовета, представители зажиточной части деревни, в частности «кулак» Артиев, угрожали ему физической расправой при помощи охотничьего оружия, заявляя: «…а много ли вас здесь собралось европейцев и долго ли вы здесь просуществуете»49. Судьба автора документа является характерным отражением проходивших политических кампаний: в конце 1931 года председатель Ивановского сельсовета был снят с должности из-за «допущенных перегибов» после обнаружения «большой недостачи»50 вещей, изъятых у раскулаченных жителей погоста.
Вполне возможно, что указанные настроения среди части оленеводческого населения Мурманского округа в первые годы коллективизации могли служить мотивом к конкретным действиям с их стороны, трактовавшимся в официальных документах как «кулацкая агитация» и «упорное сопротивление кулачества». К числу таких действий можно отнести пассивное сопротивление коллективизации со стороны отдельных оленеводческих хозяйств [1: 125], в советский период рассматривавшееся исключительно с идеологических позиций. Так, ряд рассекреченных документов свидетельствуют о фактах перекочевывания оленеводческих хозяйств, отнесенных к «кулацким», из Лово-зерского района в Полярный, где они получали возможность вступать в колхоз, относя себя к категории «середняков», и уклоняться от административного и финансового давления со стороны советских органов51.
Кроме того, в 1931 году в Понойском районе население погоста Йоканьга и с. Поной, а также погоста Семиостровье в Ловозерском районе отказывалось вступать в оленеводческие колхозы и выходить из уже образованных рыбацких колхозов. Организованные в данных населенных пунктах рыбацкие колхозы позволяли фактиче- ски совмещать прежние формы хозяйственных отношений с практикой «колхозного строительства». Выполняя план по сдаче рыбы, жители погостов получали возможность одновременно вести оленеводческое хозяйство52. В силу особенностей округа в соответствии с постановлениями ЦИК и СНК СССР от 1928 года они не облагались при этом сельскохозяйственным налогом53.
ВЫВОДЫ
Процесс организации оленеводческих коллективных хозяйств на территории Мурманского округа Ленинградской области в начале 1930-х годов отразил мероприятия общесоюзной политики в контексте местных специфических условий. Первые годы коллективизации были отмечены попытками со стороны окружного руководства добиться в отдельных районах массового обобществления кочевых хозяйств и высокой динамики прироста поголовья домашнего оленя. На проводившуюся политику, в частности, оказывала влияние сформировавшаяся в аппарате управления округа идея о близости хозяйственного быта саамов к «первобытной коллективизации». При этом зачастую игнорировались существовавшие системные трудности в сфере управления «туземными районами» и этнические особенности местного населения.
В дальнейшем при работе над комплексным исследованием коллективизации в Мурманском округе предстоит установить роль местного отделения Комитета Севера и существовавших кооперативных организаций в этом процессе, выявить отношение населения национальных районов к коллективизации в тундре на протяжении 1930-х годов, а также проследить путь формирования оленеводческих совхозов . Учитывая роль оленеводства в сельском хозяйстве современной Мурманской области, проблема организации и первых лет деятельности оленеводческих колхозов и совхозов сохраняет свою значимость.
Список литературы «Оленемания» в аппарате управления Мурманского округа на рубеже 1920-1930-х годов
- Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления / [Пер с англ. А. В. Бардина]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. 367 с.
- Зайцев О. А. Личный архив В. В. Чарнолуского как источник по истории этнорелигиозных процессов в среде кольских саами в 1920-1930-х гг. (на материалах из фондов Мурманского областного краеведческого музея) // Труды Кольского научного центра РАН. 2018. № 7-14 (9). С. 84-96.
- Калитин Р. Р. Современное состояние, проблемы северного домашнего оленеводства и пути их решения // Российская Арктика. 2021. № 15. С. 28-39.
- Керт Г. М. Саамы. Общие сведения // Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. С. 39-146.
- Киселев А. А., Киселева Т. А. Советские саамы: история, экономика, культура. Мурманск: Кн. изд-во, 1987. 206 с.
- Кольские саамы в меняющемся мире: [Монография] / А. И. Козлов и др.; Под ред. А. И. Козлова, Д. В. Лисицына, М. А. Козловой; Российский науч.-исслед. ин-т культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Инновационная лаб. «АрктАн-С». М.: Ин-т наследия, 2008. 95 с.
- Куропятник М. С. Социальная организация саамов // Прибалтийско-финские народы России. М.: Наука, 2003. С. 101-107.
- Пятовский В. П. Преображенный Север. Ленинская программа производительных сил Европейского Севера СССР в действии. Мурманск: Кн. изд-во, 1974. 416 с.
- Сорокажердьев В. В. Алымов и Комитет Севера // Наука и бизнес на Мурмане. 2004. № 2. С. 12-16.
- Степаненко А. М. Расстрелянная семья: Исторические очерки о кольских саамах. Мурманск, 2002. 283 с.
- Федоров П. В. Спорные вопросы в истории Мурмана: 1917-1997: Концепции, суждения, гипотезы / Мурм. гос. пед. ин-т. Каф. отечеств. истории, Ломоносов. фонд. Мурм. отд-ние. Мурманск, 1998. 126 с.
- Хаховская Л. Н. Первоначальная коллективизация в оленеводстве на Чукотке (1931-1933 гг.) // Вопросы истории. 2017. № 7. С. 145-152.
- Шашков В. Я. Спецпереселенцы в истории Мурманской области. Мурманск, 2004. 317 с.
- Allemann L. The Sami of the Kola Peninsula: about the life of an ethnic minority in the Soviet Union. Ro-vaniemi: University of Lapland Printing Centre, 2013. 151 p.
- Konstantinov Yu. Conversations with power: Soviet and post-Soviet developments in the reindeer husbandry part of the Kola Peninsula. Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. 417 p.